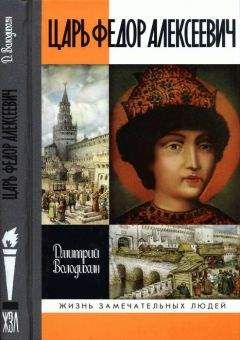Столь же гибким был Бриан и во внешней политике, чем только я и мог объяснить проявленный им интерес ко мне, отчужденному в те дни уже от всех французских так называемых «друзей».
Частные адреса таких политических деятелей, как Бриан, должны были быть всегда знакомы известному кругу людей, и я, лишенный всякого общения с политическим миром, не без чувства внутреннего удовлетворения поднимался уже на следующее утро к человеку, который, по мнению Клемансо, «никогда ничего не знал, но все понимал».
Скромная банальная обстановка малоуютного парижского салончика, в котором меня принял мой старый знакомый Аристид, ровно как и отсутствие в комнате письменного стола — опасного свидетеля деловых разговоров, — все предрасполагало к интимной беседе.
— Я позволил себе побеспокоить вас, генерал, после вчерашнего моего свидания с Керенским. Ведь «левее» его у вас политических деятелей в Париже не имеется?
— Да, он считался «левым», — ответил я.
— Так вот, желая как-нибудь изменить нашу политику в отношении России, а политика эта, между нами говоря, что-то мне не нравится, я и обратился к Керенскому и спросил его мнения по этому вопросу. А он, представьте, не разделяет моей оценки положения и остается на враждебной позиции к Советскому правительству. Поймите же, однако, мое удивление, когда я узнаю, что вы, испытанный друг Франции, человек, проделавший с нами всю войну, офицер, которого мы привыкли уважать, — оказываетесь, по словам моего секретаря, чуть ли не настоящим большевиком. Вы даже отказались признать кронштадтское правительство. Не могу же я сам, так вот, ни с того, ни с сего, изменить нашу линию поведения в отношении вашей страны… Вы должны нам помочь, вы должны нам помочь, — то и дело повторял Бриан, и в этот момент мне казалось, что он говорил это искренно.
Мой доклад о преступности иностранных интервенций, о выгодах, ввиду приближавшейся опасности экономического кризиса, скорейшего установления хотя бы торгово-промышленных отношений с Советской Россией, премьер внезапно прервал вопросом:
— Есть ли у вас ваша фотография в штатском?
— Есть, — удивленно ответил я.
— Это хорошо. Я попрошу вас принять сегодня вечером одного маленького человечка, которому вы можете доверять.
Рано утром 25 марта 1921 года в Париже разорвалась одна из тех газетных бомб, происхождение которых читателям бывает трудно определить: в самой правоверной и политически невинной газете «Эксцельсиор», на том месте, где обычно помещались описания светских балов и дипломатических приемов, появился мой портрет и мое интервью, изложенное известным журналистом Марселем Пэи, о большевиках.
— Ну, а теперь уж Игнатьев попался! — облегченно вздохнули белоэмигранты, бережно пряча этот номер газеты во внутренний карман пиджака. — Вместо пушек посылать в Россию тракторы! И какова же дерзость этого предателя веры, царя и отечества! — вопили они. — Французов хочет убедить в бесплодности интервенции на примерах разгрома Колчака, Деникина и «других врангелей», а не Врангеля! Ну, уж это мы ему припомним!
Пусть Марсель Пэи нарочито и допустил много неточностей, все же цель, поставленная Брианом, — создать брешь в общественном мнении, была достигнута: номер «Эксцельсиора» много дней переиздавался, дойдя до небывалого тиража — миллион пятьсот тысяч экземпляров. Не мог я тогда предполагать, что старая лиса Аристид, поставленный мною лицом к лицу с новой Россией, останется верным себе и найдет другие средства борьбы с Советской властью за локарнским столом.
Для меня же это был первый экзамен моей политической зрелости, и, увы, я почувствовал себя на нем, как когда-то в корпусе на экзамене по военной истории.
«Если бы знания камер-пажа Игнатьева соответствовали его красноречию, то он несомненно заслужил бы сегодня высшую оценку, в которой я на этот раз принужден ему отказать», — вынес мне тогда приговор грозный преподаватель полковник Хабалов.
Теперь, на чужбине, я стремился всеми имеющимися в моем распоряжении средствами защитить свою родину от всяких попыток повернуть вспять ее историю. Я достаточно убедительно доказывал все выгоды для французов завязать с нами для начала хотя бы торговые отношения, но сам еще не постигал всей глубины и величия совершавшихся в России событий.
* * *
Воюя против всех иностранцев, пытавшихся рассматривать Россию чуть ли не как будущую колонию, я в то же время не мог отрешиться от поставленной самому себе задачи во что бы то ни стало восстановить для России временно потерянный ею кредит во Франции, не сознавая, что заграничный капитал главной своей целью ставит закабаление всех, кто от него зависит.
Я был окружен людьми, мыслившими по-старому. Помню, что и раздобытая книга Карла Маркса «Капитал» показалась мне странной и не отвечавшей на мучивший меня вопрос о рождении на месте старой России новой и непонятной еще для меня страны. Я не сумел в ней разобраться. Исчезновение слова «Россия» в названии моей родины тоже несказанно меня огорчало.
Вот чем объяснялось непреодолимое желание встретиться как можно скорее с людьми родного берега, перебраться и вступить на который я, к сожалению, мог только мечтать. Действительно, как же можно без вызова и приказа бросить защиту своей страны за границей? Не подтверждал ли я многократно, даже в письменной форме, французскому правительству, что не покину своего поста до признания Францией Советской власти?
Но Москве, вероятно, не до меня. Там, очевидно, даже забыли о моем существовании, а я не желаю о себе напоминать через французов, через де Монзи и Эррио, которые, приняв на себя роль Христофоров Колумбов, совершили в 1922 году путешествие в казавшуюся им небезопасной Советскую Россию.
— Они имеют право прогуливаться по родной мне земле, а я вот и ступить на нее не могу!
И обидным также казалось, что французы, хорошо знавшие линию моего поведения, тщательно и преднамеренно скрывали от меня свое общение с Советской властью.
Ничто, однако, не помешало мне добраться до Лиона, где в начале 1923 года СССР по приглашению Эррио впервые участвовал на Международной ярмарке. Там надеялся я встретить советских представителей, узнать что-нибудь о России, подать, наконец, через них голос в Москву.
Долго и страстно лелеял я эту мечту, но, когда над входом в пушной отдел я увидел два скрещенных алых флага и прочел не встречавшиеся мне дотоле ни в книгах, ни в газетах буквы «URSS», мной овладело сильное волнение. Это были флаги моей Родины. Я всегда придавал большое значение символике, и красный цвет отделял для меня в ту пору Страну Советов от всего остального мира стеной непроницаемой.