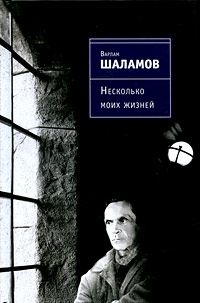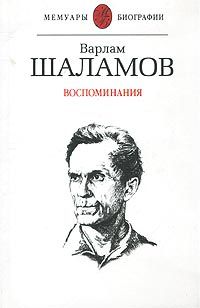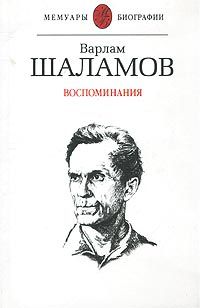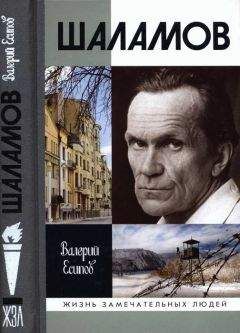В живописных пейзажах такого рода ощущения более часты. Часты они в музыке и особенно часты – в поэзии. Истинной поэзии без этих «совпадений» и не бывает. Но все это было понято много позднее.
Травма же, полученная от школьного учителя, вызвала недоверие к Пушкину ранее всего. Ибо ведь я чувствовал свою правоту. Мне подсказала жизнь, и жизнь оказалась сильнее Пушкина, от имени которого осмелился со мной говорить школьный учитель.
Случилось так, что в жизни моей не было человека, который открыл бы мне поэзию – русскую поэзию. Этим человеком мог бы стать брат, отец, мать, дядя, школьный учитель, который прочел бы со мной живым языком живые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Мне не открыл поэзии никто. Мама моя могла бы это сделать, как я догадывался позже, уже в разлуке с семьей. Мама моя была человеком крайне нервной организации, которая плакала, слушая всякую музыку – не отличая в своем отклике минора от мажора. Симфоническая музыка, рояль и скрипка приводили ее в трепет, почти к истерии. Мама моя знала бесконечное количество стихов – на всякие случаи из классиков-авторов – я не мог сообщить ей ничего нового. Всевозможные стихотворные цитаты имелись у мамы на все случаи жизни, и именно поэтому я думаю, что стихи играли в ее жизни роль очень большую и вполне реальную. О значении стихов в жизни людей будет речь дальше.
– Может быть, радио тебе поставить, – говорил я маме. Детекторный приемник уже появился тогда.
– Нет-нет. Я буду целый день плакать. Я не могу слушать музыку.
Через много лет мне рассказывал Пастернак, что не может в кино смотреть крупный план – слезы текут: «Лошадь какую-нибудь крупным планом покажут в хронике, а я – реву навзрыд», – так что мамина особенность не такая уж редкость.
Да маме и некогда было со мной – слепой отец был на ее руках.
Я двигался ощупью, от книги к книге. И в моей поэтической судьбе мне был близок раньше Хлебников, чем Пушкин, раньше Северянин, чем Блок. А с Тютчевым – высочайшая вершина русской лирики, – с ним я познакомился всерьез и сблизился уже взрослым, когда мне было чуть не сорок лет.
В моей жизни были периоды, «главы», когда приходилось выбирать: жизнь или стихи. И я не писал стихов по многу лет. И возвращался к ним при первой возможности со всей торопливостью и страстностью задыхавшегося бегуна. Но все это позже, много позже.
А пока была школа. Вологодская школа, дорогая преподавательница литературы Екатерина Михайловна Куклина, классный руководитель Елизавета Николаевна, преподавательница немецкого языка (одновременно Елизавета Николаевна заведовала кафедрой Вологодского пединститута), – обе они горячо верили в мое литературное будущее.
Я и сам чувствовал в себе большие силы, по-детски не умея найти их истинный масштаб.
Уроки литературы – как бы казенны ни были программы – были праздниками для меня. Истории – тоже. Историю читала нам Вера Николаевна Попова – не знаю ее судьбы.
Математикой я не интересовался, но учился на высшие отметки. Учение давалось мне легко и просто казалось немыслимым, что я не могу ответить на любой вопрос школы.
Екатерина Михайловна Куклина в 1921 году организовала у нас в школе кружок любителей современной поэзии, что свело меня с символистами – Бальмонтом, Брюсовым и Блоком. Подготовка к докладу познакомила меня со стихами этих поэтов глубже модного тогда «Каменщика». Брюсов оставил меня холодным. Бальмонт привлек своей музыкальностью, а до Блока я тогда еще не дорос. Наибольшее впечатление произвел на меня тогда Северянин не своим словарем, а великим искусством стиха, своей ритмической разнообразностью и совершенством.
Я и сейчас считаю, что поэтическая молодежь не должна пройти мимо такого мастера русской поэзии, исключительно чистого поэтического горла, – несмотря на всю пошлятину ряда его произведений. Северянин – настоящий поэт, поэт самой чистой пробы, новатор, показавший интонационные возможности русского стиха.
Северянин гораздо более истинный поэт, чем Бальмонт или Брюсов – очень далекий, в сущности, от поэзии человек, испортивший своих учеников, вроде Гумилева – поэта, в ком брюсовское начало губит то большое, для чего Гумилев был призван в жизнь.
С Северяниным связаны очень любопытные подробности, не очень значительные, быть может. Я показал книжку «Поэзо-антракт» своей тогдашней школьной подружке, и она вернула мне через неделю, отметив галочкой лучшие, по ее мнению, стихотворения «Поэзоантракта», – этот сборник, эта самая книжка попала мне на глаза через много-много лет.
Я перечел стихи сборника, лучшие – восемь или десять стихотворений – были как раз те, которые отметила мне школьная подружка. А ведь ей было четырнадцать, что ли, лет. Я подивился ее безукоризненному литературному вкусу, чувству.
Для чего я это рассказал? По моему глубокому убеждению, поэзия – это опыт. Стихотворение «Поэзия – дело седых» подвергалось неоднократной критике. Что, дескать, поэзия и молодость – синонимы. Да, есть такое выражение – поэзия молодости. Но чтобы выразить в художественной <форме> эту поэзию молодости, нужна художественная зрелость, нужен огромный душевный опыт, который у поэта не расхолаживает, а разгорячает, закаливает романтический огонь на сигнальных кострах эпохи. Для создателя произведения о поэзии молодости нужна художественная зрелость. А эта художественная зрелость достигается огромным личным опытом. Исторические исключения лишь подтверждают правила.
А вот восприятие поэзии, чужой поэзии, в юные годы острее, гораздо острее. Вот это-то восприятие поэзии и путают с поэтическим мастерством. Потребление путают с производством.
Но вернемся в Вологодскую школу времен Гражданской войны.
После смерти брата и слепоты отца жизнь в семье стала очень трудной.
Отец очень любил хозяйство – огороды, а также кур, уток, рыбную ловлю, охоту. К рыбной ловле он меня не приучил, к охоте – еще меньше. Ненавижу охоту и по сей день и горжусь, что за всю свою жизнь не убил ни одной птицы, ни одного зверя.
У отца были козы. Вот с козами я возился охотно, доил их. Коз отец держал до самой своей смерти. Последняя коза была украдена из сарая в ту самую ночь, когда отец умирал.
Для матери эта потеря была не катастрофой дополнительной, а освобождением от вечных хозяйственных забот.
Одно из страшных воспоминаний детства: улюлюкающая толпа несущихся по бульвару за удирающей красной белкой – крохотным напуганным существом – которое в конце концов убивают палками, камнями под рев, улюлюкание людей, которые в это время теряют все человеческое и сами обращаются в зверей.
Ловля таких забегавших в город белок на бульварах была традиционной городской забавой. Я видел эти страшные картины в детстве не один раз.
Вторым была смерть козы. Коза Тонька наелась какой-то дряни, заболела и умерла.
Ветеринара мы не звали, да и вряд ли были тогда какие-нибудь ветеринары.
Третья тяжелая потеря моего детства – это смерть лодки. Я очень любил лодку. Отец и второй брат ловили на ней рыбу, ездили за ягодами, а <я> любил ездить и один и с товарищами.
Весной ее торжественно красил отец, и запах краски на лодке был лучшим из весенних запахов городских – о весне, о лете, о воде. Зимой лодка стояла у стены под окнами нашей квартиры, оберегали, чтоб она не рассыхалась, потом пришла весна, когда лодку не красили – ни брату, ни отцу лодка уже пригодиться не могла, а я был слишком мал. Прошел еще год. Лодка стояла у стены. Еще зима… Лодку покрасили весной, и какие-то надежды вдруг родились снова: зачем ее красят? Но оказалось, что сосед просил поудить рыбу. Осенью лодку поставили на старое место. Этой осенью я уехал в Москву и попрощался с лодкой. Днище уже прогнило, краска облупилась.
Лодка молчала, лежала на привычном своем месте.
Она умерла позже своих хозяев, так и не побывав больше на реке, на воде.
Я хорошо помню февральскую революцию – как легко рухнул в сырой весенний день орел – огромный, чугунный, обвязанный канатом, сорванный, сдернутый с фронтона мужской гимназии.
Помню и Октябрьский переворот, в Вологде более будничный, чем свержение самодержавия, но в то же время и более значительный по разговорам взрослых, по тревоге общей.
В школе удивительным образом появился преподаватель политэкономии Позняков – в красных галифе. Позняков читал нам политграмоту по Коваленко, был тогда такой популярный учебник, изданный массовым тиражом на газетной бумаге, слепым шрифтом: «Учебник Политграмоты в вопросах и ответах».
Применительно к этому и обучал нас Позняков. Красные галифе мелькали в городе несколько месяцев на всех улицах – Позняков успешно ухаживал за Тамарой Грегори, дочкой доктора Грегори.
Я хорошо помню Кедрова[2] – командующего Северным фронтом, помню его вагон.
Помню латышей – в синих галифе, танцующих в городском саду без дам, друг с другом.