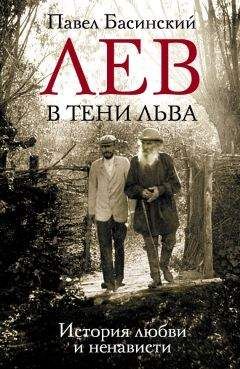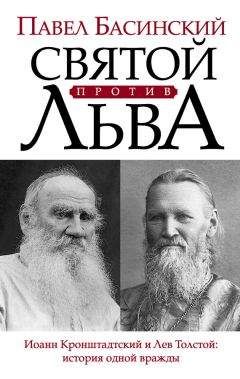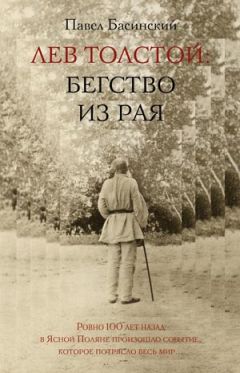Она была неправа. Уход стариков и даже старух был обыкновенным делом в крестьянских домах. Уходили на богомолье и просто – в отдельные избушки. Уходили доживать свой век, чтобы не мешать молодым, не быть попрекаемым лишним куском, когда участие старого человека в полевых и домашних работах было уже невозможным. Уходили, когда в доме «поселялся грех»: пьянство, раздоры, неестественные половые связи. Да, уходили. Но не бежали ночью от старой жены с согласия и при поддержке дочери.
Вернемся в роковую ночь с 27 на 28 октября и проследим шаг за шагом, как уходил Толстой.
Записки Маковицкого:
«Утром, в 3 ч., Л.Н. в халате, в туфлях на босу ногу, со свечой, разбудил меня; лицо страдальческое, взволнованное и решительное.
– Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать – самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно».
«Решительное» лицо не означало хладнокровия. Это решительность перед прыжком с обрыва. Как врач, Маковицкий отмечает: «Нервен. Пощупал ему пульс – 100». Какие вещи «самые нужные» для ухода восьмидесятидвухлетнего старика? Толстой думал об этом меньше всего. Он был обеспокоен тем, чтобы Саша спрятала от С.А. рукописи его дневников. Он взял с собой самопишущее перо, записные книжки. Вещи и провизию укладывали Маковицкий, Саша и ее подруга Варвара Феокритова. Оказалось, что «самых нужных» вещей всё-таки набралось много, потребовался большой дорожный чемодан, который нельзя достать без шума, не разбудив С.А.
Между спальнями Толстого и его жены было три двери. С.А. держала их ночью открытыми, чтобы проснуться на любой тревожный сигнал из комнаты мужа. Она объясняла это тем, что если ночью ему потребуется помощь, через закрытые двери она не услышит. Но главная причина была в другом. Она боялась его ночного бегства. С некоторых пор эта угроза стала реальной. Можно даже точно назвать дату, когда она повисла в воздухе яснополянского дома. Это случилось 15 июля 1910 года. После бурного объяснения с мужем С.А. провела бессонную ночь и утром написала ему письмо:
«Левочка, милый, пишу, а не говорю, потому что после бессонной ночи мне говорить трудно, я слишком волнуюсь и могу опять всех расстроить, а я хочу, ужасно хочу быть тиха и благоразумна. Ночью я всё обдумывала, и вот что мне стало мучительно ясно: одной рукой ты меня приласкал, в другой показал нож. Я еще вчера смутно почувствовала, что этот нож уж поранил мое сердце. Нож этот – это угроза, и очень решительная, взять слово обещания назад и тихонько от меня уехать, если я буду такая, как теперь… Значит, всякую ночь, как прошлую, я буду прислушиваться, не уехал ли ты куда? Всякое твое отсутствие, хотя слегка более продолжительное, я буду мучиться, что ты уехал навсегда. Подумай, милый Левочка, ведь твой отъезд и твоя угроза равняются угрозе убийства».
Когда Саша, Варвара и Маковицкий собирали вещи (действовали, «как заговорщики», вспоминала Феокритова, тушили свечи, заслышав любой шум со стороны комнаты С.А.), Толстой плотно закрыл все три двери, ведущие в спальню жены, и всё-таки без шума достал чемодан. Но и его оказалось недостаточно, получился еще узел с пледом и пальто, корзина с провизией. Впрочем, окончания сборов Толстой не дождался. Он спешил в кучерскую разбудить кучера Андриана и помочь ему запрячь лошадей.
Уход? Или – бегство…
Из дневника Толстого:
«…иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь – глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываясь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя… Я дрожу, ожидая погони».
То, что спустя сутки, когда писались эти строки, представлялось ему «чащей», из которой он «насилу» выбрался, был его яблоневый сад, исхоженный Толстым вдоль и поперек.
Обыкновенно поступают старики?
«Укладывали вещи около получаса, – вспоминала Александра Львовна. – Отец уже стал волноваться, торопил, но руки у нас дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались».
Александра Львовна тоже заметила решимость в лице отца. «Я ждала его ухода, ждала каждый день, каждый час, но тем не менее, когда он сказал: „я уезжаю совсем“, меня это поразило, как что-то новое, неожиданное. Никогда не забуду его фигуру в дверях, в блузе, со свечой и светлое, прекрасное, полное решимости лицо».
«Лицо решительное и светлое», – писала Феокритова. Но не будем обольщаться. Глубокая октябрьская ночь, когда в сельских домах, неважно, крестьянских или барских, не видно собственной руки, если поднести ее к глазам. Старик в светлой одежде, со свечой у лица, внезапно возникший на пороге. Это поразит кого угодно!
Конечно, сила духа Толстого была феноменальной. Но это больше говорит о его способности не теряться ни при каких обстоятельствах. Друг яснополянского дома музыкант Александр Гольденвейзер вспоминал один случай. Как-то зимой они поехали в санках в деревню в девяти верстах от Ясной передать помощь нуждавшейся крестьянской семье.
«Когда мы подъезжали к станции Засека, начиналась небольшая метель, которая становилась все сильнее, так что в конце концов мы сбились с пути и ехали без дороги. Поплутав немного, мы заметили невдалеке лесную сторожку и направились к ней, дабы расспросить у лесничего, как выбраться на дорогу. Когда мы подъехали к сторожке, на нас выскочили три-четыре огромные овчарки и с бешеным лаем окружили лошадь и сани. Мне, признаться сказать, стало жутко… Л.Н. решительным движением передал мне вожжи и сказал: „Подержите“, – а сам встал, вышел из саней, громко гикнул и с пустыми руками смело пошел прямо на собак. И вдруг страшные собаки сразу затихли, расступились и дали ему дорогу, как власть имущему. Л.Н. спокойно прошел между ними и вошел в сторожку. В эту минуту он со своей развевающейся седой бородой больше похож был на сказочного героя, чем на слабого восьмидесятилетнего старика…»
Вот и в ночь на 28 октября 1910 года самообладание не покинуло его. Шедших с вещами помощников он встретил на полдороге. «Было грязно, ноги скользили, и мы с трудом продвигались в темноте, – вспоминала Александра Львовна. – Около флигеля замелькал синенький огонек. Отец шел нам навстречу.
– Ах, это вы, – сказал он, – ну, на этот раз я дошел благополучно. Нам уже запрягают. Ну, я пойду вперед и буду светить вам. Ах, зачем вы дали Саше самые тяжелые вещи? – с упреком обратился он к Варваре Михайловне. Он взял из ее рук корзину и понес ее, а Варвара Михайловна помогла мне тащить чемодан. Отец шел впереди, изредка нажимая кнопку электрического фонаря и тотчас же отпуская ее, отчего казалось еще темнее. Отец всегда экономил и тут, как всегда, жалел тратить электрическую энергию».