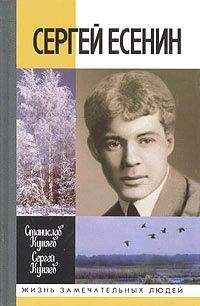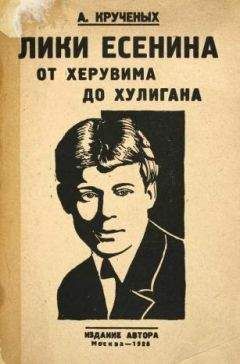В одном из эпизодов «Романа без вранья» Мариенгоф рассказывает не новый, но нравоучительный анекдот о том, что такое культура: об Англии, об английском газоне, который надо стричь два раза в неделю и ежедневно два раза поливать в течение трехсот лет. В заключение автор легкомысленно заявляет: «Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского».
Анатолий Мариенгоф, не являясь коренным русским, мог высказать такую поверхностную и невежественную мысль. Но еврейская девушка Надя Вольпин однажды весьма жестоко поправила его, что известно из ее мемуаров.
Они сидели втроем – Есенин, Мариенгоф и Вольпин – возле бронзового Пушкина на Тверском. Мариенгоф, как всегда, ерничал.
« – Ну как, вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?»
Вольпин ответила:
« – Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь, как на ладони, да и я для вас… (Тень обиды легла на красивое лицо Мариенгофа.) Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей… Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков!
– Как это?
– Нашей с вами почве – культурной почве – от силы полтораста лет, наши корни в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя, и новая. Мы с вами россияне, он русский.
(Боюсь, после этой тирады я нажила себе в Мариенгофе злого врага.)…
Рассуждая так, я несколько кривила душой: умолчала, что, кроме «девятнадцатого века», во мне живет и кое-что от древних культур, от Ветхого Завета, которого добрую половину я в отрочестве одолела в подлиннике. Далеко ли ушли в прошлое те годы, когда мне чудилось, что я старше своих гимназических подруг на две тысячи лет?
Сергей слушал молча, потом встал.
– Ну а ты, Толя, ты-то ее раскусил?»
…Ассимилированный в русской жизни в первом или втором поколении, Мариенгоф был, конечно, куда более упрощенным человеком, нежели Надя Вольпин, девушка с ветхозаветным багажом, не говоря уж о Сергее Есенине. Но следует заметить, что Вольпин как литератору ее двухтысячелетняя традиция, далекая от русского духовного склада, не могла дать никаких преимуществ не только перед Есениным, но даже и перед Мариенгофом. В этом тоже состояла драма «россиян», подобных Вольпин. Кстати, более глубокая, нежели пошлая драма Мариенгофа. А главный изъян его мемуаров не в «пасквильности» или «вранье», а совсем в другом. «Моя Пенза» – «есенинская Рязань», «Эпоха Есенина и Мариенгофа», «Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу „Пугачева“… Я привез первое действие „Заговора дураков“»… Или вот еще: «Мы принялись оба за теорию имажинизма. Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой „Буян-остров“ был издан к осени»…
Ну кто сейчас помнит «мариенгофскую Пензу», «Заговор дураков», «Буян-остров»?! Не понимая, что ставит себя в смешное и глупое положение, Анатолий Мариенгоф с первой до последней страницы мемуаров совершенно искренне убеждает читателя, что он – величина, равновеликая Есенину! Он просто «лезет» как равный в есенинскую легенду.
Однажды Есенин в состоянии лукавого великодушия посмотрел на квадригу лошадей на фронтоне Большого театра и заметил:
– А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжелее Большого театра.
Поразительно, что Мариенгоф в своем тщеславии воспринимает эту реплику всерьез и всерьез верит, что он один из тех, кто, подобно Есенину, тащит воз русской литературы!
«Мне нравился Клюев, – вспоминает Мариенгоф. – …И то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом… и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере».
В этом отрывке Мариенгоф выступает как «черный человек» по отношению к страстотерпцу Клюеву, распятому эпохой, и, в сущности, рисует свой автопортрет циника с мертвой душой. То, что искусство и поэзия для него есть призвание, а не «великая фальшь», Николай Клюев подтвердил своей мученической смертью. Именно для Мариенгофа призвание было всего лишь «мистическим ряжением». Потому-то как литератор он и окончил свою жизнь в халтуре и бесславии.
Когда же Есенин понял суть своего друга и почувствовал его лицедейское понимание судьбы поэта, он резко отшатнулся от него. Все определилось в первой ссоре:
«Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:
– А я тебя съем!
Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле.
– Ты не Серый Волк, а я не Красная Шапочка. Авось не съешь.
Я выдавил из себя улыбку… Скрипнул челюстями.
– А все-таки… съем!..
Вот наша ссора. Первая за шесть лет».
Мариенгоф не понял, что это не ссора, а конец игры в «двух гениев». Моцарт наконец-то разглядел, что рядом с ним всего лишь навсего Сальери. «Я тебя съем» означало: «Все равно ты будешь в моей тени, все равно нам на одном пьедестале рядом не стоять, ибо для тебя поэзия „великая фальшь“, а для меня – жизнь и смерть…»
«Роман без вранья» – не столько завистливая книга (зависть пришла позже, в 1950-е годы, когда всем стало ясно, что автор – лишь одна из теней есенинского окружения), сколько глупо самоуверенная и потому даже в чем-то смешная. Мариенгоф в «Романе» творил легенду не только о Есенине, но и о самом себе, причисляя «себя любимого» к сонму бессмертных.
Самовлюбленная пошлость Мариенгофа особенно проявилась в одной из ключевых фраз романа: «А Есенин на другой день после смерти догнал славу». Это очень похоже на лихорадочно-завистливое заявление Маяковского о том, что если бы он умер и лежал в гробу, то о нем стали бы говорить не меньше, чем о Есенине. Напророчил…
Оба как бы упрекали Есенина в том, что он, покончив с собой, очень ловко и без хлопот достиг невероятной славы… Наивные люди! Да не Есенин после смерти догнал славу – она сама догнала его еще при жизни, во что ни Мариенгофу, ни Маяковскому не хотелось верить.
«Алкоголик», «хам», «хулиган» и «златокудрый Лель», «светлый отрок», «русский гений» – две великие легенды о нем. А всех мелких и не перечислить. Тут и записка, якобы написанная кровью и найденная утром 28 декабря 1925 года в «Англетере», о чем в тот же день сообщили чуть ли не все центральные газеты. Здесь и полное убеждение, что «Послание евангелисту Демьяну» – одно из популярнейших самиздатовских стихотворений 1920-х годов – принадлежит именно его перу. Оно не раз печаталось за рубежом, как принадлежащее Сергею Есенину, и Екатерина Есенина в 1926 году вынуждена была, отводя тень, нависшую над родными поэта, опубликовать письмо, в котором категорически отрицала, что ее брат – автор «антисоветского» православного стихотворения. Конечно же, никто из живших есенинской легендой не поверил ей. Чтобы стал ясен диапазон легенды – «от великого до смешного», – вспомним напоследок, что маститый литератор Давид Бурлюк перед тем, как встретиться с Есениным в Нью-Йорке, писал глупости о жизни поэта: «Поэт уезжает на Белое море, где его дядя имеет рыбные промыслы. 5 лет туманов, 5 лет бледные звезды, отраженные в северных морях, смотрят в поэтовы зрачки…»