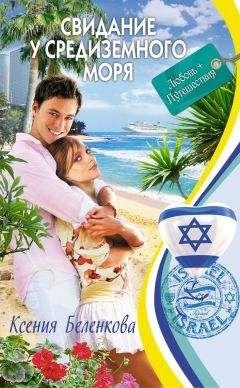"Хозяин - человек богатый, и он видел нашу бедность и нужду. Не станет он за нами гоняться". Безвыходность положения и наша настойчивость принудили отца согласиться. Наняли мы подводу, ночью погрузились и уехали втихомолку из Ольшанки. По Волге плыли до Сызрани. Там на железнодорожной станции получилась непредвиденная задержка: отец хотел купить два полных билета и один четвертной, но мне уже полагался половинный. Пришлось отцу упросить соседа, чтобы тот за три двухкопеечные булки одолжил для показа кассиру своего шестилетнего мальчика. Так удалось сэкономить и на билетах.
Мы с братом облегченно вздохнули и развеселились, когда поезд тронулся: все-таки, шептались мы, могло ведь случиться, что хозяин послал бы за нами погоню... Отец же был по-прежнему молчалив и печален. Жестокое, несправедливое к труженику устройство жизни вынуждало даже такого твердого в нравственных правилах человека, как наш отец, решаться на поступки, которые он считал дурными, и это его терзало.
Впрочем, некоторые "преступления" против имущественных прав "казны" и богачей настолько вошли в крестьянский быт, что нравственная их оценка начисто отмерла, и когда их совершали, то заботились лишь об удаче и безнаказанности.
Недалеко от нашей деревни начинались большие леса. Мы, да и все наши соседи, ездили туда за хворостом, ибо дрова стоили дорого. Иной раз удавалось свалить и сухое дерево и, разрубив или распилив его на небольшие части, тщательно замаскировать на телеге хворостом - иначе встреча с лесником сулила большие неприятности. Особенно страшно было проезжать мимо его сторожки на берегу реки, как раз у самого моста.
Однажды, после окончания весенних работ в поле и на огороде, выдалось свободное время. Мы с отцом поехали в лес. Нам повезло: три сухих бревна лежали у нас под хворостом. Отец приказал мне ехать с возом домой, пообедать и возвратиться к нему; сам он остался заготавливать дрова.
Из лесу можно было ехать по торной дороге или через луг. Дорога через дуг была короче, но надо было переезжать канаву. Провожая меня, отец строго приказал не ездить лугом. Я, конечно, обещал сделать все так, как он приказал, но в душе решил сэкономить полтора километра и, выехав из лесу по дороге, свернул на луг. Подъехав к канаве, остановился, прикинул, в каком месте лучше ее переехать, и тронул лошадь. Вдруг - о ужас! - застряв в канаве, сломалось колесо, и воз сел. Меня обуял такой страх, я так растерялся, что никак не мог сообразить, что же делать; сваливать хворост о телеги страшно, на дне заложены три бревна, а сторожка лесника в каких-нибудь трехстах шагах; вернуться к отцу - еще страшнее. Решил отпрячь лошадь и ехать в деревню верхом.
Но отец, по-видимому, не очень мне верил. Он вышел на опушку и, увидев, что я поехал по лугу, стал наблюдать, как я преодолею канаву. Только я стал отпрягать лошадь, как увидел отца, идущего ко мне. Дрожа от страха и обливаясь слезами, я прикидывал, что теперь со мной будет. Когда же отец был уже недалеко от меня, я бросился что было сил в лес. С опушки увидел, что отец действует по моему замыслу - выпряг лошадь и верхом поехал в деревню. Я продолжал стоять на опушке, наблюдая, не появится ли около воза лесник. Но лесника не было. Долго я ждал возвращения отца и, не дождавшись, удрученный, вернулся в лес.
Там, горько плача, я упал на колени, страстно умоляя бога и всех известных мне святых смягчить сердце отца. Страх перед побоями заставлял меня дрожать. Но этот же страх гнал меня посмотреть, где отец и что делает. Выбежав снова не опушку, я увидел возвращающегося верхом отца. В руке он держал новое колесо, вероятно, занял у кого-то. С помощью ваги отец поднял телегу и надел колесо. Мне хотелось подбежать к нему, помочь, попросить прощения, но страх пересилил, и я остался стоять за кустами. Я видел, как отец по временам всматривается в лес; видел также, как он, сияв половину хвороста, запряг лошадь и как они напрягают силы, стараясь выехать из канавы. Был момент, когда я уже решил: "Ну, будь что будет, выбегу к отцу", но в это время, преодолев препятствие, отец снова наложил хворост на воз и тронулся к мосту.
Я дождался темноты и только тогда рискнул вернуться в деревню. Ночевал в клуне и почти всю ночь молился. Заснул лишь на рассвете. Проснулся я, когда солнце стояло уже высоко. Подходя к дому, увидел отца; он тоже заметил меня и пошел в мою сторону. Я остановился в ожидании расправы. Но в это время поблизости послышался голос, протяжно тянувший: "Продаю косы-серпы, косы-серпы, косы-серпы!" - и появилась обтянутая брезентом повозка. Отец круто повернул к ней.
Я уже был в избе, когда отец вернулся с двумя косами, двумя серпами и, любуясь, внимательно их рассматривал. "Взял в долг, - сказал он матери и довольным тоном добавил: - А ведь не обманул, правду сказал: косы-то австрийские, на них и написано не по-нашему".
Как я удивился, что отец только строго посмотрел на меля и даже пальцем не тронул! Ведь я хорошо знал, что даже самый малый проступок он не оставляет без наказания. Наверное, до бога и святых дошла моя усердная, отчаянная молитва... Но позднее мать рассказала, что пережили они с отцом в ту ночь, когда я не ночевал дома. Тогда я понял, что не бог со святыми угодниками. а мать смягчила сердце отца.
Следующей осенью отец решил подыскать работу поближе к нашей деревне, чтобы не платить за дальний переезд. Устроился он в верстах сорока от Рязани. На этот раз Николай, наученный горьким опытом прошлого года, наотрез отказался бросать свою работу в Шуе. Мне пришлось ехать к отцу одному. От Рязани я шел пешком.
Трудная, неблагодарная и, главное, грязная эта работа - выделка овчин! Для начала надо было набрать у крестьян партию овчин, штук полтораста. Сухие овчины замачивались в речке, чтобы с них лучше очищалась грязь. Вымоченные и вымытые овчины переносились в дом. Острой косой счищались с мездры остатки мяса. Потом в большие чаны с водой засыпалось пуда полтора муки. Закладывались туда овчины и квасились там, а потом поступали в окончательную обработку. Запах в помещении стоял убийственный, он пропитывал всю одежду, волосы, кожу. Дышалось с таким трудом, что о непривычки в овчинной нельзя было пробыть больше десяти минут сряду - необходимо было выскакивать, подышать свежим воздухом. Неразлучно тянулся этот запах кислятины за человеком и долго не выветривался. Овчинника можно было безошибочно узнать, вернее, "унюхать" издалека.
После сбора первой партии овчин отец прихворнул и послал меня одного на речку. Было очень морозно. Надо было прорубить прорубь и в ней мыть овчины. Приходилось очень часто делать перерывы, чтобы отогреть коченеющие руки. Работа подходила к концу, когда мои пальцы, совсем обессилевшие от холода, выпустили очередную овчину, и ее моментально унесло течением под лед. Отец строго-настрого приказывал не упускать овчины, и я сам отлично понимал, какая это огромная потеря: сырая овчина стоила пятьдесят - шестьдесят копеек, за выделку одной в белый цвет получали мы тринадцать копеек, за дубленую семнадцать, а за выделку в черный цвет - двадцать пять копеек. Я и про мороз забыл, сразу стало жарко от мысли: как идти и говорить отцу о беде... Придумать я ничего не смог и, надеясь лишь на то, что "авось обойдется", ничего не сказал отцу. Но он несколько раз пересчитывал овчины, и одной все недоставало. Пришлось признаться, что упустил ее я. Больно избил меня отец, да и не один раз. Сначала я терпеливо переносил наказание, чувствуя себя виноватым, но после третьей взбучки заявил, что уйду. За эту дерзость отец избил меня еще сильнее. На другой день, зачем-то пересчитав вчерашние овчины, отец снова разгневался и опять меня избил. После этого я окончательно решил уйти от него домой.