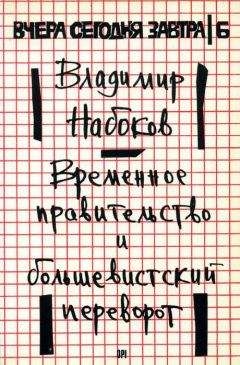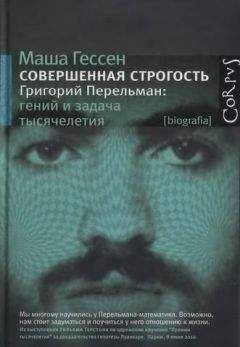Перехожу к внешним фактам, в их хронологической последовательности.
23 февраля жена моя должна была вернуться из Раухи, в Финляндии, куда она уехала с сыном еще в середине января и где оставалась несколько дней после возвращения сына, поправляясь от бронхита. Я ездил на вокзал ее встречать и живо помню, как на пути домой я рассказывал ей и полковнику Мятлеву (которого мы в своем автомобиле довезли до его дома на Исаакиевской площади), что в Петербурге очень неспокойно, рабочее движение, забастовки, большие толпы на улицах, что власть проявляет нервность и как бы растерянность и, кажется, не может особенно рассчитывать на войска — в частности, на казаков.[2] В пятницу 24-го и в субботу 25-го я ходил, как всегда, на службу. 26-го, в воскресенье, Невский получил вид военного лагеря, — он был оцеплен. Вечером я был у И. В. Гессена, у которого по воскресеньям обычно собирались друзья и знакомые. На этот раз я, помнится, застал у него только Губера (Арзубьева), который вскоре ушел. Мы обменивались впечатлениями. Происходившее нам казалось довольно грозным. То обстоятельство, что власть — высшая — находилась в такую критическую минуту в руках таких людей, как кн. Голицын, Протопопов и ген. Хабалов, не могло не внушать самой серьезной тревоги. Тем не менее, еще 26-го вечером мы были далеки от мысли, что ближайшие два-три дня принесут с собою такие колоссальные, решающие события всемирно-исторического значения.
Возвращаясь домой с Малой Конюшенной, я не мог взять обычный путь — прямо на Невский и Морскую, так как через Невский меня бы не пустили. Я прошел переулком на Большую Конюшенную, потом через Волынкин переулок на Мойку, через Певческий мост, Дворцовую площадь, совершенно пустынную, мрачную, огромную, мимо Невского, по Адмиралтейскому проспекту. Проходя мимо градоначальства, я не мог не обратить внимания на большое количество автомобилей (10—12), стоявших перед подъездом. Вернулся я в начале первого, встревоженный и с мрачными предчувствиями.
Утром в понедельник 27-го я, как всегда, в десять часов утра отправился на службу. Азиатская часть Главного Штаба помещалась тогда в здании бывшего Главного Управления казачьих войск, на Караванной против Симеоновского моста. Проходя по Караванной и поравнявшись со сквером, я был остановлен каким-то господином со знакомым лицом (кто он такой — я ни тогда, ни потом вспомнить не мог), который мне сказал, что на Кирочной — стрельба, что часть солдат взбунтовалась. Он упомянул, помнится, о Преображенском полке. Придя затем в помещение Азиатской части, я никаких новых сведений не получил. Началась обычная работа, шедшая в этот день как-то вяло. Тем не менее, мы (мои сослуживцы и я) досидели обычное время — до трех часов, и в три часа я пошел домой, по Невскому, по которому в это время уже был свободный проход и толпились массы народу.
К вечеру Морская — насколько можно было видеть из окон, в особенности из боковых окон тамбура, выходящего на улицу и дающего возможность обозревать ее до «Астории», с одной стороны, и до Конногвардейского переулка, с другой, совершенно вымерла. Начали проноситься броневики, послышались выстрелы из винтовок и пулеметов, пробегали, прижимаясь к стенам, отдельные солдаты и матросы. Временами отдельные выстрелы переходили в оживленную перестрелку. Временами — но всегда на короткое время — все затихало. Телефон продолжал работать и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать. С утра 28 февраля возобновилась сильнейшая пальба на площади, а также в той части Морской, которая идет от лютеранской кирки к Поцелуеву мосту. Выходить было опасно — отчасти из-за стрельбы, отчасти потому, что с офицеров начали срывать погоны, и уже ходили слухи о насилиях над ними со стороны солдат. Часов в 11 утра (может быть, даже раньше) под окнами нашего дома прошла большая толпа солдат и матросов, направляясь к Невскому. Шли беспорядочно и нестройно, офицеров не было. В эту толпу, по-видимому, стреляли — не то из «Астории», не то из Министерства Земледелия: точно это никогда не было установлено, да и самый факт стрельбы также не установлен, — возможно, что это было позднее выдумано. Как бы то ни было, под влиянием ли выстрелов (если они были), или по каким-либо другим побуждениям, эта толпа начала громить «Асторию». Оттуда начали к нам являться «беженцы»: сестра моя с мужем — адмиралом Коломейцовым, потом семья целая, с маленькими детьми, приведенная знакомыми английскими офицерами, потом еще другая семья наших отдаленных родственников Набоковых. Все это кое-как разместилось у нас в доме.
Весь вторник 28-го, а также среду 1-го марта я не выходил из дому. Было много хлопот по устройству неожиданных и невольных гостей, но большая часть дня проходила в каком-то тупом и тревожном ожидании. Точных сведений было мало. Известно было только, что центральным пунктом является Государственная Дума, а к вечеру 1-го марта уже говорили, что весь Петербургский гарнизон, а также некоторые прибывшие из окрестностей части присоединились к восставшим.
Утром 2-го марта уже офицеры могли свободно появляться на улицах, и я решил отправиться в Азиатскую часть выяснить положение. Придя туда, я застал на первой большой площадке огромную толпу служащих, офицеров и писарей. Я быстро прошел в наше собственное помещение, но через некоторое время пришли мне сказать, что меня просят, чтобы сказать несколько слов по поводу происшедших событий. Я пошел к собравшимся. Меня встретили аплодисментами. Мы все перешли в большую залу. Я взобрался на стол и сказал краткую речь. Точно не помню своих слов, — смысл их заключался в том, что деспотизм и бесправие свергнуты, что победила свобода, что теперь долг всей страны ее укрепить, что для этого необходима неустанная работа и огромная дисциплина. На отдельные вопросы я отвечал, что я сам еще не в курсе происшедших событий, но что собираюсь днем в Государственную Думу и там всё, конечно, узнаю в подробности, а завтра мы все можем вновь собраться. На этом мы и покончили, служащие разошлись, оживленно разговаривая. Я недолго пробыл в Азиатской части, где не было ни начальника ее, ген. Манакина, ни ближайшего его помощника, ген. Давлетшина, и где, разумеется, в этот день ни о какой работе нельзя было думать. Вернувшись домой, я позавтракал, и в два часа снова вышел с намерением пробраться в Государственную Думу.
На углу Невского и Морской я как раз столкнулся со всем составом служащих Главного Штаба, которые шли в Государственную Думу для того, чтобы заявить Временному Правительству, о сформировании которого только что стало известно, свое подчинение ему. Я к ним присоединился, мы пошли по Невскому, Литейной, Сергиевской, Потемкинской, Шпалерной. На улицах была масса народу. Везде видны были взволнованные, возбужденные лица, уже висели красные флаги. В то время как мы проходили мимо Аничкова дворца, какой-то старик, интеллигентного вида и прилично одетый, увидя меня (я шел с края), сошел с тротуара, подбежал ко мне, схватил меня за руку и, потрясая ее, благодарил меня «за все то, что вы сделали», прибавляя с большой энергией и решительностью: «но только Романовых нам не оставляйте, нам их не нужно!» На Потемкинской мы встретили довольно большую толпу городовых, которых вели под конвоем, — по-видимому, из манежа Кавалергардского полка, куда они были заключены при начале восстания.