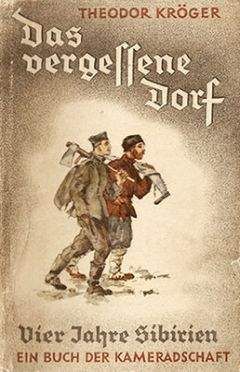Кто-то трясет меня за голые плечи. Это охранник с добродушным крестьянским лицом протягивает мне в руки какой-то листок.
«Признайся во всем, отрицать бессмысленно! Все пропало! Твой отец».
Я с колотящимся сердцем осматриваюсь вокруг, но камера пуста.
Микроскопически маленький глазок в двери... Я пристально всматриваюсь в него... Глаз, едва видимый, едва заметный, ожидает с нетерпением за ним...
Руки за спиной, я хожу по камере долго, очень долго взад-вперед. Снаружи светит солнце, и дуновение близкой воды проникает ко мне. Я хожу взад-вперед, снова и снова от одной стены к другой, потом опять вдоль и поперек.
Через глазок пристально смотрит глаз – он следит за всеми моими шагами.
Медленно раскрывается дверь камеры. Входит высокий, седой господин с аристократически острыми и сдержанными чертами лица, в руке у него портфель.
Он говорит долго, убедительно, его голос благозвучен, убедителен, выражения подобраны умело и хитро. Он мастерски описывает мне глубоко огорченного отца, внезапно ставшую смертельно больной мать, говорит об изобилии отягчающего материала, обещает беспрепятственный выезд в Германию, если я назову ему имена тех, кто, вероятно, предал свое отечество.
Спустя некоторое время он молчит и ждет, что я теперь начну говорить, хоть что-нибудь, какую-то мелочь, чтобы потом построить на ней все то мощное сооружение, ради которого он и пришел ко мне. Его глаза испытующе рассматривают мои черты, они скользят по обрывкам моей одежды и возвращаются к лицу. Тщательно он рассматривает свои ухоженные руки, каждый палец в отдельности, его ладони приглаживают ухоженную прическу.
Неподвижно я сижу на нарах, и так же неподвижно мужчина стоит рядом со мной, его окружают ароматы изысканной жизни. – Видите ли, доктор Крёгер, среди двух врагов всегда есть один великодушный и один низкий. У первого есть все преимущества, так как он – духовный победитель. Не хотите ли вы быть им? – снова начинает говорить этот человек.
Я медленно поднимаю голову. Я поражен: он сказал эти слова на немецком языке без акцента. Он говорит о великодушии, о долге человека заклеймить те элементы, которые означают раковую язву для страны и народа, о долге офицера, о честном слове, о капитуляции перед великодушным противником, который нашел единомышленника, о борьбе ради отечества, борьбе, в которой одинаково достойны уважения все средства, все равно – сражаться и погибать ли для своей страны на фронте или в тылу противника. Строение его психологического наступления так убедительно, так правильно и полно, что у меня нет даже самой незначительной возможности, пролезть хотя бы в самую маленькую брешь. – Я даже дам вам возможность самим убедиться. Я устрою так, что вашего слугу допросят в вашем присутствии.
- Я был бы вам очень благодарен, – отвечаю я.
Мужчина поднимается, идет к двери камеры, стучит и исчезает точно так тихо, как и пришел.
Я еще раз рассматриваю листок с запиской моего отца. Я тщательно проверяю каждую отдельную букву, каждый завиток, точки, написание букв. Я снова прихожу к тому же результату – это искусный подлог! Это подлог! Или же почерк моего отца изменился по причине последних событий, запугивания, ареста, угроз по сравнению с привычной, вечно неизменной картиной? Я никогда не считал отца слабым. Может ли и его рука начать дрожать?
Я получаю хороший обед, бутылку вина, мой любимый табак, которым с радостью набиваю трубку, предупредительное обращение, новую, чистую, солнечную камеру...
К вечеру дверь открывается. Входит добродушный надзиратель, за ним появляется мой слуга; он несет поднос с ужином, ставит его молча на стол передо мной. Также присутствует и элегантный господин. Надзиратель выходит из камеры.
Передо мной стоит Ахмед, мой слуга-татарин. У него вид экзотического гранда. Всегда ухоженные тщательно подстриженные и причесанные волосы, хороший гражданский костюм, легкое, светлое летнее пальто, белые, безупречные перчатки. Круглое, коричневатое лицо только что побрито, черные, несколько узкие глаза кажутся настолько же равнодушными, как и черты его лица.
- Ваш служитель сам все вам сообщит. Однако я прямо здесь должен определенно подчеркнуть, что на него не оказывалось никакого давления, и что он также не высказывается под принуждением или под угрозой каких-нибудь насильственных мер. Правда ли это?
- Да, правда! – подчеркнуто отвечает татарин мужчине.
Я знаю, что он лжет!
Ахмед служил нам уже двадцать лет. Когда я, еще ребенком, однажды летом находился с моей кормилицей в Крыму в маленьком поместье моего отца, Ахмед убежал к нам, чтобы найти защиту от своего русского отчима, который за самую маленькую провинность избивал его до полусмерти.
Ахмеда его отчим якобы продал моей матери за сто рублей. Его обучили грамоте, он учился в средней школе, и стал потом моим постоянным провожатым почти во всех поездках по родной стране и по загранице. Я знал его преданность и верность, я мог безгранично полагаться на него.
- Непременно скажите господину Крёгеру полную правду, – перебивает мужчина и делает пригласительное движение рукой.
Мои глаза встречаются со взглядом татарина. Его глаза необъяснимо черны. Все тайны его расы лежат там.
- Барин (господин)... , – начинает азиат твердым, ясным голосом, – я клянусь вам перед Богом, что говорю правду, что я не нахожусь под чьим-то влиянием... Он продолжает говорить. Мужчина долго и внимательно наблюдает за ним.
В узких глазах, в крайних углах, в крохотных маленьких складках... там лежит правда, в едва ли восприимчивых искрах, которые перескакивают ко мне известным, доверительным образом.
Ахмед – это полнокровный монгол, достойный наследник его великого предка Чингисхана. На чертах его лица играет остающаяся вечно неизменной, обязательная улыбка Азии играет – я все это знаю.
- ... и это сообщение, прерываю я его, – действительно ли оно исходит от моего отца? Он сам писал его? И я передаю татарину бумагу с немногими словами.
- Господин коммерции советник писал это сам в моем присутствии, и я должен был сразу доставить это в крепость, – отвечает он без сомнения, решительно и энергично.
И снова только для меня улыбаются глаза азиата...
Мне стоит невероятных усилий не броситься на шею татарину.
- Господин Крёгер, я не хочу дальше упрашивать вас, – снова начинает русский. – Я охотно предоставлю вам срок подумать – один или два дня. Я вернусь. Решение я предоставляю вам. Пойдемте, – обращается он к Ахмеду, – мы оба выполнили свой долг. Позаботьтесь о том, чтобы на вилле господина Крёгера все снова было приведено в порядок, так как он, вероятно, действительно скоро туда вернется. Мужчина кланяется, и я слежу за безразличным, выученным лицом татарина с его индифферентным выражением. У двери он поворачивается, и наши взгляды встречаются еще раз.