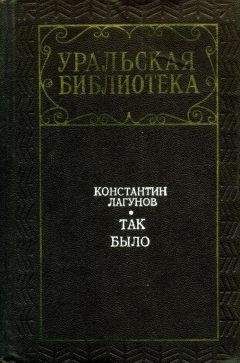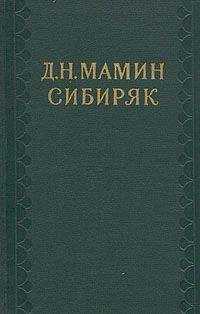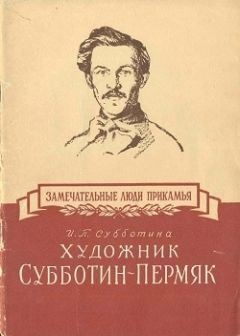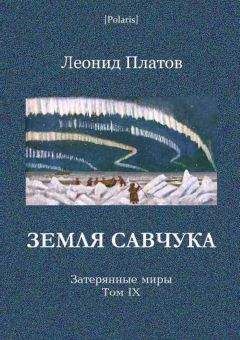Рыбаков подошел к столу. Резко крутнул ручку телефонного аппарата. Строго обронил в трубку:
— Райторг. — Подождал немного. — Федулин? Рыбаков. Зайди.
Стукнул по рычажку, сердито дунул в решетчатый кругляш.
— Военкомат. — Снова подождал. — Лещенко? Рыбаков. Зайди…
2.
— Вот она… война, — проговорил Богдан Данилович, провожая взглядом медленно уходящую старуху. — Война, — повторил он с силой. — Нелепая… злая штука. И чтобы покончить с ней, надо как можно ожесточеннее воевать. Во-е-вать! С винтовкой. С автоматом. Там. На переднем крае. Лицом к лицу с врагом. — Глубоко вздохнул. Помолчал. И уже другим, недовольным, усталым голосом сказал: — Конечно, хлеб — тоже оружие. Тыл — опора фронта. И все же исход войны решается там. — Встал, нервно прошелся по комнате. — Чего бы не отдал я за то, чтобы оказаться сейчас в окопах…
— Что вы, товарищ Шамов… Богдан Данилович, — Валя укоризненно покачала головой, — не всем же быть на фронте. Вы не по своей воле…
— Ах, Валюша. По своей, не по своей… какое это имеет значение? — Он свернул папиросу, вставил в мундштук и принялся ощупывать карманы.
Валя вынула из ящика стола коробок спичек. Подала ему.
— Спасибо. — Богдан Данилович прикурил, шумно затянулся. И ушел. Сердитый, недовольный собой.
В приемную вошел запыхавшийся мужчина. Высокий, круглолицый. В зеленой шинели и мохнатой пыжиковой шапке. Спросил простуженным баском:
— У себя?
— Сейчас уезжает.
— Только что звонил. Велел зайти.
— Проходите.
Он торопливо разделся. Несколько раз провел расческой по редким рыжим волосам, примял их ладонью. Одернул суконную гимнастерку и так повернулся на месте, что кожаные подметки белых бурок жалобно пискнули. Подошел к кабинету. Приоткрыв дверь, просунул в щель сначала голову, потом плечи и, наконец, скрылся весь.
А в приемную уже входил другой посетитель, подтянутый офицер с тремя кубиками в петлицах. Он от порога козырнул девушке и стал раздеваться.
— Вас тоже вызывал?
Офицер резко кивнул головой.
— Так точно.
Он вошел в кабинет четким шагом. Поздоровался с Рыбаковым, подал руку громко сопевшему Федулину, сел рядом. Рыбаков сердито поглядел на посетителей, сунул окурок в пепельницу.
— Лещенко, — процедил он сквозь зубы, — тебе что-нибудь известно о семье Бетехтина?
— Так точно, — отчеканил райвоенком, вставая. — Знаю ее положение. Но у нас ведь нет никаких фондов. Сами знаете. Я написал отношение в райторг.
Рыбаков перевел взгляд на Федулина. Тот подался вперед и торопливо зашвырял словами.
— Была такая бумага. Мы проверили. Положение действительно… Мы кое-что наметили…
— Что наметили? — повысил голос Рыбаков.
— Мы это самое… — Федулин поперхнулся.
— Когда ты узнал об этом?
— Точно не помню. Кажись, на прошлой неделе. Наши возможности очень…
— Чем жила старуха с детьми эту неделю? А?
Федулин молчал, испуганно хлопая ресницами. Рыжие волосы вздыбились на его голове. Круглое лицо залоснилось от пота.
— Чем живет старуха с четырьмя детишками, я тебя спрашиваю?
— Так ведь… Вы же сами понимаете… Тут надо… — Он вконец смешался, безнадежно махнул рукой и умолк.
Василий Иванович вышел из-за стола. Остановился перед Федулиным.
— Заелся. Кожа стала шибко толстой. Чужое горе уже не доходит до сердца. «Мы проверили. Наметили. Наши возможности». А старуха по миру ребятишек посылает. Чьих ребятишек, я тебя спрашиваю? Он за нас с тобой в окопах мокнет, кровь проливает, а мы его детей накормить не можем? Чурбак!
— Василий Иванович… — начал было Федулин.
Рыбаков так стегнул его взглядом, что тот прикусил язык и, вынув носовой платок, стер пот с круглого лица.
— Эх ты… Иди. — Рыбаков вернулся к столу, уперся в него ладонью. — И сегодня же обеспечь эту семью продуктами.
Федулин облегченно вздохнул. Круто повернулся и торопливо зашагал к выходу. Когда он был уже у двери, в кабинете вновь загремел секретарский голос:
— И запомни. — Василий Иванович пристукнул ладонью по столу. — Еще раз такое повторится — не простим.
Федулин ушел. Василий Иванович осуждающе посмотрел на военкома.
— И ты хорош гусь. Не делай обиженного лица. Именно гусь. Считаешь, что твое дело — только призыв. Отправил на фронт, и все. Нет, брат. Солдат не только пушками да автоматами силен. Он духом своим силен. Понятно? Получит Бетехтин письмо от семьи. Прочтет однополчанам. И все носы повесят. Будут думать не о войне, а о ребятишках. И только из-за твоей милости. Мог ты поинтересоваться, что сделал райторг, нажать на него? Мог или нет? А?
— Так точно. — Лещенко смущенно потупился.
— А дровишек ей мог подвезти?
— Так точно. Мог.
— Мог и не сделал, товарищ военный комиссар. Звание-то тебе какое дали. Ко-мис-сар. А ты?
— Виноват, Василий Иванович.
— Виноват. — Рыбаков укоризненно покачал головой.
В кабинете стало тихо. Прошла минута, другая. Зазвонил телефон. Василий Иванович снял трубку.
— Слушаю. Да. Знаю. Зайди к Федотовой. — Откинулся на спинку стула. Посмотрел на все еще стоявшего военкома. — Садись, Лещенко. Кури. Через пять минут последние известия. Послушаем сводку.
Пока военком закуривал, Рыбаков включил маленький батарейный радиоприемник, который стоял на этажерке. Послышался громкий шорох, треск. Но вот сквозь них проклюнулся звучный аккорд фортепиано. Еще один аккорд. Еще. И негромкий задушевный голос запел:
На позицию девушка
Провожала бойца.
Темной ночью простилися
На ступеньках крыльца…
Василий Иванович медленно прошелся по кабинету, остановился у окна, за которым раскинулась широкая, потонувшая в снегу улица. Ранние сумерки подсинили снег. Из трубы дома напротив вылетали лохмотья дыма. По узенькой тропке, пробитой в снегу, шла женщина с ведрами. За ней бежал черный лохматый пес.
Военком бесшумно подошел к Рыбакову. Встал рядом. Подал кисет. Василий Иванович одним привычным движением скрутил толстую папиросу. Оба молча глотали дым самосада, смотрели в окно и думали, вероятно, об одном и том же. А проникновенный голос певца выговаривал слова любимой фронтовой песни:
Все, что было загадано,
Все исполнится в срок,
Не погаснет без времени
Золотой огонек…
Два солдата, два недавних фронтовика, стояли рядом. Молчали, курили, слушали. Наверное, песня в одно мгновение перенесла их туда, где шла война. Может, им вспомнилась отчаянная русская атака. А может, затемненный тихий уголок ночной землянки. Приглушенный гул пламени в самодельной печурке, потрескивание коптилки, сделанной из снарядной гильзы, короткие телефонные гудки. Кто знает? Главное, что оба они в эти минуты снова были солдатами. И солдат Рыбаков положил руку на плечо солдату Лещенко.