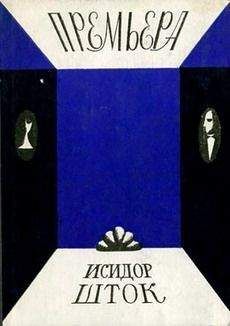Мама села писать прошение.
У меня коклюш осложнился свинкой, ящуром и корью, что и констатировал профессор Гаркави.
А в это самое время сидевший в комендатуре и ожидавший казни отец подошел к окну, обнаружил, что оно не закрыто и находится на уровне земли в полуподвале, за окном ночь, мелкий дождь и никого нет. Отец подставил стул, перешагнул через подоконник и пошел домой.
Мама затряслась, увидев отца в подвернутых штанах, в рваном смокинге, в расстегнутой манишке, с льющейся по усам грязной водой.
Отец бросил взгляд на стол, где на листе бумаги были слова:
«Глубокочтимый Антон Иванович! Мой муж потомственный почетный гражданин до седьмого колена…»
Папа увидел меня, дрожащего под двумя одеялами и кафтаном князя Игоря, воспаленного от высокой температуры.
Надо бежать. Скрываться. Моментально. Где будем скрываться? У поверенного фирмы «Ралле и Ко», в главной гостинице города на Павловской площади! Никому не придет в голову искать нас там.
Ночью, по грязи, под дождем, без пропусков, мы бежали в гостиницу. У отца в руках была корзина с клавиром «Золотого петушка», на котором собственноручная дарственная надпись Римского-Корсакова, набор серебряных ложек, ножей и вилок, оказавшихся впоследствии имитацией под серебро работы фабрики Фраже. У мамы – чемодан с ее концертным платьем, папиным фраком и моим клистиром. На мне – кафтан князя Игоря, в полах которого я все время путался и падал в грязь. Хотя температура была очень высокой, я хорошо помню это ночное бегство.
Представитель «Ралле и Ко» встретил нас гостеприимно, но сдержанно. Он был полунемец-полуангличанин и умел скрывать чувства. Мы поселились в ванной комнате при его апартаментах на четвертом этаже гостиницы Тюфяк мне постелили прямо в ванне, воды все равно в городе не было, водопровод разрушен.
Я не помню, сколько времени пробыли белые в городе. Долго! Все эти месяцы мы с отцом не выходили из гостиницы. А мама стирала на нас и на Ралле, убирала апартаменты, бегала на базар и меняла концертное платье, смокинг отца и кафтан князя Игоря на козье молоко и яйца.
А потом белые покатились на юг. С ними бежал уполномоченный «Ралле и Ко», оставив нам граненые графины и образцы мыла.
Под грохот отдаленных артиллерийских залпов мы вернулись в театр.
Отец стер мокрой тряпкой написанные углем и мелом лозунги, призывающие чествовать непобедимую добровольческую белую армию и убивать всех жидов и коммунистов, и мы снова воцарились в администраторской с земляным полом и разбитой гитарой на стене.
Далекая канонада продолжалась. Белые оставили город, а красные еще не заняли его. В городе было безвластие. Однако темные силы боялись проявлять себя, ожидая большевиков, с которыми, как известно, шутки плохи. Театр Коммерческого клуба был пуст. Словно сквозняком сдуло всех ночлежников. Исчезли, бросив сундуки с двойными днищами, Макс и Юзефа. Уехали клоуны, укротители, медведи. Еще раньше, весной, пропала оперетта. Труппа распалась на северян и южан.
Последние рванули к морю, за границу, и впоследствии много лет выступали в стамбульских, парижских, харбинских кабаках. Первые – вместе с отступающей Красной Армией уехали в теплушках на север, вернулись в Москву и в Петроград, где украсили столичные оперетты.
Одни артисты бежали от белых к красным, другие – от красных к белым, третьи сражались в рядах Красной Армии, четвертые поселились в обильных украинских селах, окрестьянились, стали разводить пчел, сторожить бахчи, выращивать подсолнухи, завели кур и коз, поняли, что быть артистом в эпоху войн и революций еще опаснее, чем быть крестьянином.
В театре остались только мы втроем: папа, мама, я. А театр был огромный, холодный, темный и прекрасный.
Во время оккупации и болезни я сильно вытянулся, похудел, и вдобавок еще отец, которому некуда было тратить свою могучую энергию, решил меня постричь. У «Ралле и Ко» были наборы расчесок, ножниц, машинок. При помощи этих инструментов отец, до сих пор никогда не державший в руках машинки, остриг и немного побрил меня. Во многих местах разрезал мне кожу, затем обильно залил царапины йодом и залепил пластырем.
В таком виде я теперь бродил по театру, похожий на героя приключенческого романа «Привидение в Парижской опере».
На ногах моих были высокие бархатные сапоги Варяжского гостя из «Садко», с чрезвычайно задранными носами.
Я обходил актерские уборные и разглядывал забытые на столах возле зеркал полупустые коробки грима и кусочки гуммоза. Я слонялся за декорациями, на обратной стороне которых были номера и обозначения «пра», «лев». Я нюхал воздух кулис, пахнувший не мылом «Ралле и К0», а плесенью, столярным клеем, рогожей. Я прислонялся к корявым стволам деревьев, сделанных из фанеры, старых афиш и клейстера. Я гладил нарисованных на холстах лебедей, плывущих по синим-синим озерам, мимо роскошных замков. Я немножко повертел колесо, которое поднимало и опускало занавес. Потом подошел к люку, в который проваливалась в «Орфее в аду» бедняжка Эвридика. Топнул два раза ногой, но люк подо мной не опустился. Потом по лесенке сошел в оркестровую яму, тихонько поиграл на литавре – большом барабане. Потом обошел все ложи бенуара и бельэтажа. Нашел много ценных вещей: сигару, веер, перчатку, лорнет, программу благотворительного концерта, крестик, множество окурков красивых папирос, бонбоньерку из-под конфет, распорядительский бант и несколько пустых фляжек. Все это богатство я притащил в директорскую ложу, где обнаружил в кресле отца кошку, окотившуюся прелестными котятами. Кошка была толстая, благодушная. Очевидно, в театре было много мышей, евших декорации, и кошка жила припеваючи. Я был счастлив. Наверное, никогда я не был так счастлив, как в тот день…
После призрачного мира войны, жизни в ванне, золотых обоев гостиничных апартаментов, опостылевшего вида из окна на Павловскую площадь, разговоров шепотом, глупого представителя парфюмерной фирмы и его отвратительной, жадной, сварливой жены-красавицы, после облав, погонь, всегда испуганных глаз мамы и унылых обвисших усов отца, страха, возникающего из-за любого шума за дверью, на лестнице, – я вдруг вернулся к себе домой.
Я был дома – в театре, где родился, воспитался, кроме которого ничего как следует не знал. Единственном месте в мире, где я ничего не боялся сейчас. Здесь было все так реально, спокойно, ясно.
Отец разрыл паркет за раздевалкой, вынул оттуда конторские книги. Он их вел с первого дня приезда в город и записывал все доходы и расходы, вплоть до покупки метел. Теперь предстояло записать, что нет ни доходов, ни расходов. Деньги были отменены. Базары не работали. Есть было нечего. И труппы тоже не было. Все это отец подробно записал в дебет и кредит.