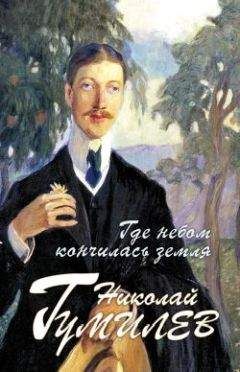Говорят, Тифлис со временем все сильнее напоминал Петербург. По крайней мере, И. Чавчавадзе утверждал это на полном серьезе. Но это, конечно, вздорное преувеличение. Грузины вообще всегда сами себе кого-то напоминают. То находят общее с французами, кажется, и не отличишь тот же Тбилиси от Парижа, разве что Эйфелева башня не высится над перескакивающей с камня на камень гремящей Курой, то оказываются одного корня с басками, и всячески поддерживают этот миф, то решат, что являются на Кавказе эталоном европейской культуры, и начинают нести ее, культуру, в непросвещенные массы – усевшись на танки и бронетранспортеры, едут с просветительской миссией в Южную Осетию и Абхазию, и очень обижаются, когда темные народы, не желая цивилизоваться, встречают их с оружием в руках. Нет, культуртрегерство положительно не дает грузинам покоя.
Дом в Тифлисе, где жила семья Гумилевых. Фотография П. Лукницкого, 1960-е гг.
Но одна забавная подробность и впрямь могла напомнить о Петербурге – на торговой площади ровно в полдень, как в полдень и в Северной Пальмире, раздавался выстрел из пушки. Грузины, в отличие от петербуржцев, единственным выстрелом не обходились. Что поделать, такая уж воинственная нация: «Спозаранку пушечный выстрел сзывал горожан на торговую площадь – Майдан.
Вела к нему улица среди приземистых одноэтажных лавок. В лавках торговали не одними только фруктами и съестными припасами. Были здесь мастерские золотых и серебряных дел мастеров, духаны, кофейни, чайные и цирюльни; винные погреба с огромными бурдюками из буйволиной кожи, кузнечные мастерские и мастерские скорняков. Шум-гам стоял невообразимый. Люди сновали взад-вперед; порой проходил караван верблюдов или вереницей тянулись ослы, навьюченные зеленью, виноградом, фруктами. Зачастую посреди всей этой базарной толчеи мальчишки затевали между собой борьбу, кулачный бой, игры. Да и взрослые вели себя отнюдь не степенно. Но об этом потом, потом.
Вот на середину тротуара кто-то выставил жаровню с шашлыком на горящих угольях. А вот и вся улица загромождена ящиками и тюками.
…А на Майдане, посередине рынка, на полосатом столбе развевается знамя. Рядом, у капани – огромных весов, толпится народ. Взвешивают на капани мешки с солью, тюки хлопка и шерсти. Народу видимо-невидимо. Площадь тесная, в пятачок, сжата со всех сторон кривыми и косыми карточными домиками и фантастическими постройками, висящими в небе».
Зрелище, пестрое, разнообразное, занятное, радует глаз. Можно представить, что ты находишься в каком-нибудь восточном городе, да что представить, так оно и есть. Придумывай кто ты – Синдбад-мореход или Гарун аль Рашид, переодевшийся в простую одежду, либо Аладдин, выторговывающий на базаре старую медную лампу: «Между грудами овощей, фруктов, среди лавок с роскошными персидскими коврами бродят горцы, увешанные оружием; букинист с кипою книг, туго перетянутых ремнем, вглядывается в толпу… Турки и арабы молча сидят за прилавками, дымят кальяном, перебирают янтарные четки. Над раскаленными торнэ – пекарнями вьется сизый дымок. Пахнет горячим хлебом, пряностями и еще чем-то квашеным.
На Майдане представлен весь Тифлис: персиянин с глазами «как яичница», в рыжеватой бараньей шапке, с красною бородой и крашеными ногтями, в широком атласном кафтане. Армянин в чохе и московском картузе, угрюмый лезгин и грузин в шапке, лихо заломленной набекрень.
То и дело останавливаясь, площадь переходит вброд знаменитый «корабль пустыни». Поводырь – татарин или турок – тянет его за веревку с кольцом, продетым через ноздри; протащится мерин тулухчи-водовоза. Наполненные водой меха судорожно вздрагивают на боках мерина и обдают брызгами прохожих».
После пушечного выстрела, который раздается в двенадцать часов, покупать товары имели право лавочники, разносчики и перекупщики.
В жизни Тифлиса не последнюю роль играют кинто и карачохели. Это не просто два городских типа. И даже не обычные символы тифлисской жизни. Вот что пишет о них все тот же И. Гришашвили: «Кинто и карачохели – разные люди. Кинто – ожиревший бездельник, мошенник беспардонный, мелкий воришка. Карачохели – рыцарь без страха и упрека.
Характер человека кладет печать и на одежду его и на внешность. Карачохели, что означает «одетый в черную чоху», – рослый, плечистый, сильный мужчина. Его шерстяная чоха обшита по краям позументовой тесьмой; под чохой – архалук – рубашка из черного атласа в мелкую складку. Черные шерстяные шаровары, широкие книзу, заложены в сапоги со вздернутым носком, голенища перевязаны шелковой тесьмой. Подпоясан карачохели серебряным наборным ремнем. В зубах дымится трубка, инкрустированная серебром. Расшитый золотом кисет и шелковый пестрый платок заложены за пояс. На голове заломленная островерхая шапка.
Кинто – «носящий тяжести на вые» – в старину слово «квинти» означало еще и домового – одет в ситцевую в белый горошек рубаху с высоким, никогда почти не застегнутым, воротником. Просторные сатиновые шаровары заправлены в носки. Он обут в сапоги «гармошкой», носит картуз, длинная цепочка от часов свисает из его нагрудного кармана. Подпоясан кинто узким наборным ремешком. Чоху он вовсе не носит».
Таким образом, кинто и карачохели – это два абсолютно разных отношения к миру, а поскольку и кинто, и карачохели еще и поэты, они воплощают совершенно противоположные поэтические системы. Кинто – веселый, насмешливый стихотворец-пройдоха, любящий не столько стихи, сколько самого себя, карачохели – именно поэт, он творит во имя поэзии. Кинто обессмертил на своих клеенках и досках Н. Пиросмани, карачохели можно увидеть на картинах Л. Гудиашвили, картинах раннего, еще допарижского периода.
Впрочем, к поэтической грузинской натуре следует относиться с некоторым скептицизмом. Все грузины – поэты. Южная кровь пылает, зовя к свершениям, а южная же лень мешает заняться чем-либо всерьез. Грузины известные сибариты.
Газета «Тифлисский листок» от 8 сентября 1902 г. со стихами Гумилева
Все это видел, не мог не видеть Гумилев, бродивший по городу и его окрестностям в одиночестве и зачастую опаздывавший домой даже к обеду, на что отец сердился – домашний порядок соблюдался членами семьи очень строго. А. Гумилева рассказывает о редком исключении: «Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение – «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет». Дело происходило в сентябре 1902 года.