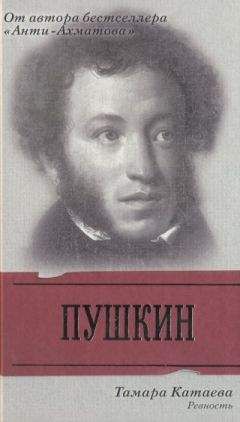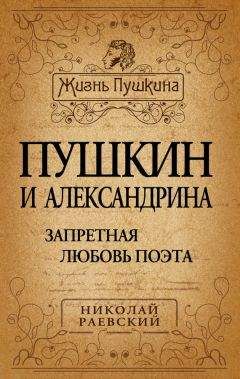Ну, тут и я, с круглыми желтыми плечами.
ЛИЗА (голенькая): Всегда есть какой-то знак, которым можно себя пометить: я еще женщина, я еще хочу нравиться. Возможно, какие-то вдовые римские матроны подбирали как-то по-особому, по-девичьи складки на плече — и это тоже было не по возрасту, над этим смеялись, но зеркало, в которое всматривались с исступлением, не могло не начинать своей магии: непрерывный, неотрывный взгляд собирал широкий поток сознания в узкий луч, как свет целого яркого солнечного дня круглая линза собирает в жгучий, жгущий, острее ножа и тоньше спицы, смертоносный луч, от которого может выгореть целый город. Так страстный, в ужасе перед неизбежным цепляющийся за невидимые постороннему признаки молодости взгляд сосредотачивается до силы смертельного оружия — губит только себя самое, — и зеркало поддается. Плавится, расходится кругами, волнами как от брошенного камня, заманивает в зазеркалье — и черты рябят в зыби магического зеркала, поднимаются щеки, распрямляется шея, вспухает кожа, приоткрываются губы. Ровней и острей становятся зубы, пушистее брови, мягче волосы, короче носик, свежее колер, кажется, даже аромат яблок — аромат чистой, молодой кожи — с легкостью пара струится вокруг зеркала, — ну а плечи, плечи-то — они, и без зеркала видно, — они круглы, полны, аппетитны, они не изменяют, они мое украшение, они все еще хороши. Мне не пристало их скрывать. Пусть стареет Пушкин, а я буду молодеть.
МАСКА: Втянувшая в придворный плен, исковеркавшая судьбу. Наталья. Или он сам хотел попасться в этот плен?
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА: Зловещие январские дни. Сначала был январь 37-го года — и сама по себе цифра какая-то страшная, корявая, такую нигде красиво не напишешь, ни округлости одной, ни благообразия, для девятнадцатого века — тысяча — восемьсот — тут уж одно благолепие, бесконечность, благополучие — и на тебе, сучками, закорючками едет оборванная тройка и страшный топор семерки. А ведь потом каждый год — январь. Как ни отвлекись мыслью, как ни засобирайся куда на вечер или к себе ни жди — а темнеет всегда в январе рано, еще столько времени — до гостей, до людей, до почты утренней — и сумерки заходят, и вспоминать приходится все одно и то же. Как ни говорят про меня, что я мужа не любила, может, и не любила, я уже сейчас не помню, помню только, что перегруженно с ним было, это правда, хотелось бы чего-то более гладкого, простого — хоть мне не выбирать, ни к чему и жаловаться, — но умер он у меня в доме, я была ближайшим к нему человеком, все его предсмертие проходило через меня, докладывали о каждом вздохе и хрипе — мне, да еще требовали рассудительности, я знала, что он умрет, и вот пять этих страшных январских вечеров — у нас ведь в январе петербургском — всегда вечер, если уж не ночь, — надо было прожить. Знать, что его на ночь увезут в церковь — еще страшнее.
Нет, других тоже увозят в церковь на последнюю ночь, но увозят-то днем, когда вдове еще на солнечный свет взглянуть можно, а ночью хватится: где он? — а он в церкви. Ну, так и заснуть можно, спокойнее как-то, все лучше, чем когда в зале, посреди комнаты, стоит…
Мне за что — к ночи, в метель, когда и так все опустело, когда страшно было глаза скосить — приходят… разговаривают… повезем… куда возят покойника к ночи?.. это невиданное что-то, так покойников возить. Их даже на кладбище навещать полагается до полудня, живым среди них ходить, как дело не к свету идет, не полагается, а здесь — спаси и сохрани — покойника между живыми носить на ночь собрались. Кого за руку схватить, кому пожаловаться, кому велеть решить?
На все Пушкин был.
И оставил мне это — январские вечера. До конца дней моих.
ИННА И РОМАН: И не только на ее век хватило: избави Бог к Мойке в сумерки со стороны Летнего сада подходить. Там, впереди, будет шуметь Невский и светиться, там — Дворцовая площадь, главные мосты, важные государственные здания строительной неистощимости и мощи, здесь — историческая застройка, цепочки трехэтажных домов, бельэтажи, тонкая легковесная ампирная лепка, частный сектор. Речка изгибается, фонари меркнут, окна почти не светятся, метет, метет, бьется пурга о гранитные парапеты, легкие автомобили удерживают дорогу едва, сани, небось, заносило бы — от ветра. От обледенелого снега, от нервной рысцы везущих покойника лошадок… Гляди, заворачивают… Везут Пушкина в Конюшенную церковь — страшно, жутко Наталье Николаевне одной дома оставаться, как безумие — кажется, что с Пушкиным-то хоть и в гробу, а все как-то уютнее, а уж как посчитать, прикинуть по времени? Везут ли его или уж довезли, да как им едется по темному городу… какое-то язычество, какая-то магия — мертвое тело не закопать сразу, там, где удостоверились в его смерти, а возить, показывать, давать смотреть, поднимать, выносить, заносить, в специальные костюмы и туфли обряжать. Кружить и кружить, везти ночью, везти днем…
* * *
Нас, трех сестер, отсекли друг от друга, как ножом. Меня от Таши — Пушкиным, Катю от нее — Жоржем. Не потребовалось ни кровосмешения, ни предательства — только то, что нельзя преодолеть. Какие-то дети, подростки будут знать, что Пушкин погиб из-за жены. И имя Кати будет проклято, и мое — презираемо. Интересоваться нами будет значить опуститься в какую-то муть. День, когда Таша написала нам о своей затее забрать нас в Москву — будет в пьесе сопровождаться глухим тревожным перебором низкого, барабанного звука. День, когда нас впервые повезут по Петербургу, — этой сценой откроют последний акт. Все начнется с этого. А был ли кто-нибудь из них, этих драматургов, в Полотняном Заводе? Богатейшее в России имение — леса, дома в восемьдесят комнат, каскады прудов… — одно слово, майорат, никаких выделений младшенькому, седьмому — не считая девочек, с их тоже обязательной, замуж-то надо! долей — сыночку. Это вам не Петербург — Калуга! Столько леса, а мрачности никакой, горы, песчаные откосы, глубокие реки с драматическими берегами, имение все по старому, богатому заведению, солнце, морозы, летом травы, клумбы, мы в обнимку, мы даже не смели мечтать вслух, мы знали, что будет у нас все хорошо, мы считали себя одинаково красивыми, читали Пушкина. Сватовству тому маменька не была довольна, уж больно переборчиво он палец глубоко запустил, поддел сразу Наташу. Остальное ногтем отодвинул — и наша участь тем решилась. В Москве — не Петербурге (я уж не про Калугу), в Петербурге мужчин в два с половиной раза больше, чем женщин, и все военные, то есть женихи, — в Москве у старших невзятых приговор подписывается сразу. Что маменьке сочинители! Да и Наташе. Да и нам — мы все ждали не Пушкина. Я мечтать о нем стала, только когда остались мы наедине в его полном доме, когда там было все, и ничего ему не надо, когда он только хотел жить своей гениальной жизнью — и с самым чистым восторгом я хотела бы за этой жизнью следить, следовать ей, помогать и получить его признание. Какие б ни были его холостые привычки — это такая малость, я с восторгом ждала той жизни, которая могла открыться предо мной.