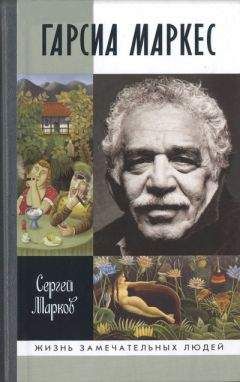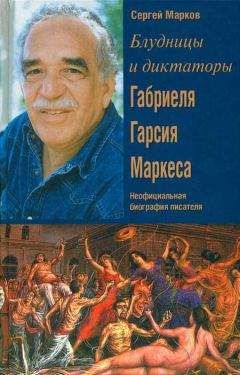Но в 1964-м и в начале 1965 года Гарсия Маркес переживал серьезный творческий кризис; он писал грустные письма и вел мысленные беседы с самыми близкими друзьями.
— Помнишь, дорогой мой Плинио, я тебе не раз рассказывал, мне тогда было десять лет и я узнал, что умер мой дед Николас? Он был для меня самым дорогим и любимым человеком на свете. Тогда мне стало так страшно, я подумал — ведь и я могу умереть, и у меня на теле появятся вши, и все об этом узнают. Взрослые говорили, что, когда кто-то умирает, у него на теле обязательно появляются вши. Но настоящее, глубокое горе — много лет спустя я говорил тебе и об этом — я почувствовал от того, что не стало на свете деда. С тех пор, всякий раз когда со мной случалось что-то особенное, пусть даже очень радостное, я не испытывал полного счастья, потому что эту радость не мог разделить со мной мой дед. Никто не мог мне его заменить! Мой отец жил на другой волне. Со дня смерти деда, если мне и случалось испытать ощущение радости, оно всегда было у меня неполным. Но сегодня, сейчас — мне стыдно тебе об этом говорить — коньо[6], я рад, что деда уже нет, — по крайней мере, он не может знать, что со мной происходит. Я — полный кастрат! Я — пустой человек! Принимаю транквилизаторы, намазанные на хлеб вместо масла. Райская жизнь сценариста на самом деле есть лишь маленький оазис, вокруг которого расстилаются джунгли сугубо коммерческой кинопромышленности. Там правят законы джунглей, по которым сценарист есть не что иное, как безропотное прирученное животное. Я готов бросить все к чертовой матери и вернуться в Колумбию! Пусть даже на пустое место. Я не могу больше работать на бесталанных, безграмотных людей, для которых существуют только деньги, и подчиняться их воле.
— Я тебя прекрасно понимаю, дорогой Габо. Прежде ты — я это отлично помню — твердо верил, что именно средствами кино можно поведать людям о том, что тебя волнует и что ты как писатель обязан им сказать. Однако теперь, два года проработав сценаристом в угоду, как ты пишешь, «монстрам от целлулоида», ты с болью и унижением вынужден признать, что проза как жанр — неизмеримо выше кино. Я с тобой согласен и думаю, в этом состоит парадокс современной жизни: массовое кино есть непримиримый враг настоящей прозы. А хуже всего, что ты, прирожденный певец свободы, обязан исполнять чужие причуды в интересах толстосумов-продюсеров и беспринципных зачастую кинорежиссеров. Ты, конечно же, не предназначен для этого. Не знаю, дорогой друг, что тебе и посоветовать, но, думаю, возвращение в Колумбию — это не выход. Ты здесь зачахнешь! Обстановка в стране — сплошное удушье. Здесь ты станешь страдать еще больше! Найди в себе силы порвать с кино, брось заниматься коммерческой рекламой. Вспомни твои прежние литературные планы. Закончи «Дом».
— Ты даешь хороший совет, Плинио. Работу над «Домом» я забросил еще в начале шестьдесят второго. В рукописи было уже более шестисот страниц. Я к ней с тех пор не прикасался. А теперь и вовсе не уверен, смогу ли вернуться к этому роману, во всяком случае сейчас. Хотя… хотя, может, ты и прав. Что-то ведь надо делать…
Между тем в то время — начало 1965 года — Гарсия Маркес был занят сочинением своего первого самостоятельного киносценария «Время умирать» («Tiempo de morir»), Однажды, возвращаясь домой, писатель увидел, что сторож, который в прошлом был профессиональным убийцей, мирно сидит и вяжет себе свитер. Родилась идея сценария «Время умирать», по которому затем был снят фильм «Чарро»[7]. После того как мексиканец Карлос Фуэнтес переписал диалоги колумбийца Гарсия Маркеса, Артуро Рипштейн, двадцатилетний сын известного продюсера, принялся за съемки.
Период с марта по июнь 1965 года стал чрезвычайно тяжелым для писателя. Гарсия Маркес горько сетовал матери, отцу и близким друзьям на свою судьбу.
«В какой мере работа Гарсия Маркеса в кинематографе повлияй на его литературную судьбу?» На этот вопрос писатель в середине 1967 года (уже будучи «на коне». — Ю. П.) ответил так: «Работа для кино требует великой покорности. В этом состоит разница между кино и литературной работой. В то время как новеллист, сидящий перед пишущей машинкой, свободен и независим, сценарист есть лишь деталь сложнейшей системы зубчатых колес и в своей работе он почти всегда движим чуждыми ему интересами…» (34, 71).
Очевидно, последней каплей, переполнившей терпение писателя, явились для него съемки фильма «Чарро» и приезд из Соединенных Штатов Америки его испанских литературных агентов, Кармен Балсельс и ее мужа Луиса Паломареса. Именно тогда он принял твердое и, как оказалось, важнейшее решение в своей жизни.
Балсельс и Паломарес с радостью прилетели в Мехико, чтобы поближе познакомиться с Гарсия Маркесом, поскольку им удалось разместить в издательстве «Харпер и Роу» все четыре книги писателя в английском переводе. Правда, по контракту Гарсия Маркес получил всего… тысячу долларов.
— Ваш контракт — сущее дерьмо! — прямо заявил Гарсия Маркес своим литературным агентам, пребывавшим в эйфории от достигнутых успехов. Те были шокированы не только содержанием, но и формой высказывания — писатель нередко огорошивал людей в первые минуты встречи.
— Паршивых тысячу долларов за четыре книги! Они написаны на превосходном испанском языке! Карахо, они стоили мне пятнадцати лет изнурительного труда…
— Но теперь они выйдут и на английском языке, причем в Соединенных Штатах! — довольно твердо возразила Кармен. — Поймите, такое случается не с каждым писателем из Латинской Америки. И потом, мы так старались! Вы просто не осознаете, какой это успех.
Габо замолчал и… три дня и три ночи возил чету по лучшим ресторанам, музеям, историческим достопримечательностям Мехико, знакомил со своими приятелями. Между Кармен, Луисом и Гарсия Маркесом сложились крепкие дружеские отношения. В последний вечер пребывания каталонцев в Мехико, в присутствии давнего друга писателя, тоже каталонца Луиса Висенса, деятеля кино, прежде проживавшего в Колумбии, состоялся такой разговор.
— Послушай, Габо, будь настоящим другом. — Лицо Кармен сделалось пунцовым. — Я чувствую, я твердо знаю, что не ошибаюсь. Я делаю на тебя серьезную ставку! Чем твое перо уступает таланту Алехо Карпентьера, Хулио Кортасара, Марио Варгаса Льосы, твоих друзей мексиканцев Хуана Рульфо и Карлоса Фуэнтеса?
— Кого еще? — насторожился писатель, однако видно было, что сравнение пришлось ему по душе.
— Хуана Карлоса Онетти, Жоао Гимарайеса, если хочешь, даже Мигеля Анхеля Астуриаса. Ты уже известный латиноамериканский писатель. Один из лучших. Просто… как тебе сказать, ни на одно из твоих уже опубликованных произведений не пал крупный выигрыш. Ты хорохоришься там, где не надо, а где надо показать себя, Габриель Гарсия Маркес становится зажатым и неуверенным в себе. Почему так получается? Возможно, потому, что у тебя не было настоящей рекламы…