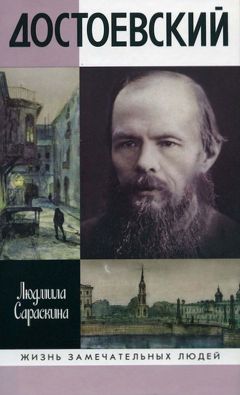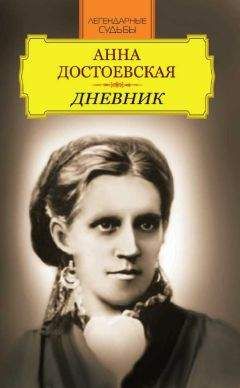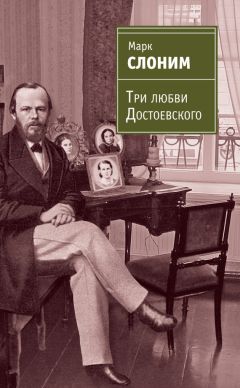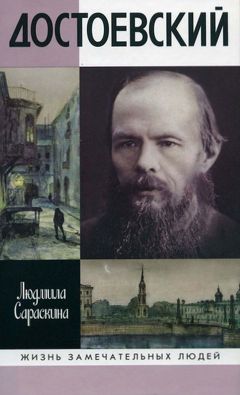...А марксистская критика 1930-х, понимая, что одним только творчеством никак не обойтись, предложила даже и ракурс, в котором следовало рассматривать личность писателя, его жизнь и судьбу. «Все его повести и романы — одна огненная река его собственных переживаний. Это — сплошное признание сокровенного своей души. Это — страстное стремление признаться в своей внутренней правде... Достоевский тесно связан со всеми своими героями. Его кровь течет в их жилах. Его сердце бьется во всех создаваемых им образах. Достоевский рождает свои образы в муках, с учащенно бьющимся сердцем и с тяжело прерывающимся дыханием. Он идет на преступление вместе со своими героями. Он живет с ними титанически кипучей жизнью. Он кается вместе с ними. Он с ними, в мыслях своих, потрясает небо и землю. И из-за этой необходимости самому переживать страшно конкретно все новые и новые авантюры он нас потрясает так, как никто»24.
Так «архискверный» Достоевский получил в Стране Советов право на биографию.
* * *
Первый биограф Достоевского, профессор Санкт-Петербургского университета Орест Федорович Миллер, приступивший к сбору материалов для жизнеописания сразу же после смерти писателя, жаловался на равнодушие и неотзывчивость лиц, близко знавших покойного, хранивших его письма, но не торопившихся их обнародовать. «Смелости не хватает назвать настоящим жизнеописанием то, что может образоваться от приведения в порядок имеющегося теперь материала. Слишком много еще ощущается различных пробелов, пополнить которые зависит от доброй воли тех, кто, должно быть, считает письма Достоевского или же свои воспоминания о нем своею частною собственностью... Хотя жизнеописание Достоевского еще невозможно в своем настоящем смысле, — удерживать под спудом накопившийся уже материал было бы, в свою очередь, со стороны собирателей присвоением себе общественной собственности. Пусть только публика смотрит на то, что представляется ей на этих страницах, как на свод материалов — не более»25.
И в самом деле, прижизненная критика — и революционно-демократическая, и умеренно-консервативная, и религиозно-философская — биографией Достоевского не занималась, как не занимался ею вообще почти никто до революции. Интерпретаторы творчества писателя были поглощены острой мировоззренческой борьбой. Вокруг имени классика сталкивались личности, группы, направления, партии. Идеологи самых разных течений русской и европейской мысли готовы были видеть в нем своего предтечу — или своего непримиримого врага. В течение четырех предреволюционных десятилетий ревдемовская критика упрекала Достоевского в злобной и лживой клевете на прогрессивные общественные движения. Радикальные публицисты (П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский, П. Л. Лавров, Г. И. Успенский) настойчиво подчеркивали: Достоевский нарушил правду жизни, выдав часть за целое. Мы, революционеры, не такие, какими изобразил нас Достоевский. Не мы являемся прототипами бесов, выведенных в его романах. Те, которых имел в виду Достоевский, не имеют с нами ничего общего. Для критики этого типа Достоевский, по утверждению Н. А. Бердяева, «был совершенно недоступен, у нее не было ключа к раскрытию тайн его творчества»26. Не было у них поползновений и к раскрытию тайн его личности.
Однако и мыслителей иного духовного склада, считавших себя учениками Достоевского, интересовал не столько писатель в его человеческом измерении, сколько то, обрел ли учитель истину или остался накануне истины — о Христе и Антихристе, о русском народе и его судьбе. «На чью сторону стал бы Достоевский, на сторону революции или реакции? Неужели и теперь не почувствовал бы дыхания уст Божиих в этой буре свободы? Неужели и теперь не отрекся бы от своей великой лжи для своей великой истины?»27 — такая мысль занимала в 1906 году Д. С. Мережковского, сильно полевевшего в разгар первой русской революции. Автор монументальной книги «Толстой и Достоевский» отрекался от того, чем дорожил создатель «Карамазовых»: «Если бы он увидел то, что мы сейчас видим, — понял ли бы, что православие, самодержавие, народность, как он их разумел, не три твердыни, а три провала в неизбежных путях России к будущему? Она пошла туда, куда он звал, к тому, что он считал истиной. И вот плоды этой истины. Россия уже не “колеблется”, а падает в бездну»28.
Крупнейшие русские философы — К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Вл. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, Вяч. И. Иванов, Д. С. Мережковский, Л. И. Шестов, С. Л. Франк и другие представители русского культурного ренессанса из тех, кто считал Достоевского «ушедшим вождем и богатырем духа»29,— сформулировали центральные темы независимого и неподцензурного спора о Достоевском, но никогда не занимались проблемами биографии писателя, которого в своем кругу интимно называли «Федор Михайлович». Он интересовал их не столько в полноте жизни, сколько в полноте мысли — как пророк нового христианства, как глашатай русской мессианской идеи, как гениально прозорливый современник, во многом угадавший пути и судьбы России. Показательно, что Вл. Соловьев, связанный с Достоевским близким знакомством, писал: «В трех речах о Достоевском я не занимаюсь ни его личной жизнью, ни литературной критикой его произведений. Я имею в виду только один вопрос: чему служил Достоевский, какая идея вдохновляла всю его деятельность?»30
Спустя тридцать лет после кончины писателя один из самых зорких его истолкователей В. В. Розанов вспоминал, как еще студентом услышал скорбную весть о смерти кумира.
«“Достоевский умер”, — и значит, живого я никогда не могу его увидать? и не услышу, какой у него голос! А это так важно: голос решает о человеке все... Не глаза, эти “лукавые глаза”, даже не губы и сложение рта, где рассказана только биография, но голос, то есть врожденное от отца с матерью, и, следовательно, из вечности времен, из глубины звезд...»31 Однако речь в статье все равно шла об истинности тона: «Он говорил, как кричит сердцевина моей души»32.
Личность Достоевского, писал годом раньше русский философ В. Ф. Эрн, высится над всеми его творениями, «остается неисчерпанной, хранящей по-прежнему тайну, которую не могут вместить никакие слова и намекнуть на которую может только слово поэта или художника...»33. «Мало знать, — утверждал Эрн, — что написали и что сказали Гоголь, Достоевский или Соловьев, нужно знать, что' они пережили и как они жили. Порывы чувства, инстинктивные движения воли, выраставшие из несказанной глубины их молчания, нужны не для простого психологического истолкования их личности (так сказать, для полноты биографии), а для углубления в “логический” состав их идей»34. Неразрывность личности и слова Достоевского понималась русской философской мыслью, для которой персонализм имел не случайный, а сущностный характер.