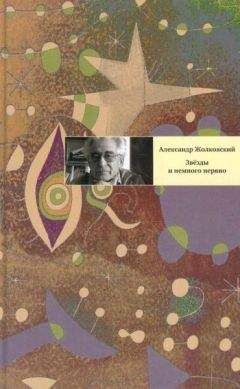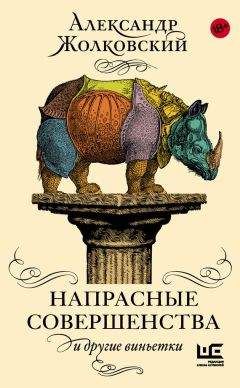Другой раз мне удалось убедить Мельчука, ни в грош не ставящего поэтику, в ее праве на существование. Как-то «в походе» я завел речь об инвариантах. Игорь немедленно устроил публичный экзамен: на память прочел неизвестные мне стихи и потребовал определить автора. Я назвал Симонова, а в ответ на невольное одобрение перечислил симптоматичные мотивы. Мельчук был покорен – разумеется, ненадолго. (Против инварианта не попрешь.)
К 60-летию того же Мельчука, уже в эмиграции, я написал эссе «О пользе вкуса» – о том, что Россию погубила любовь к плохой литературе, вроде «Что делать?» Чернышевского, и неспособность адекватно понимать хорошую, в частности «Станционного смотрителя» Пушкина: картинки с блудным сыном на стене станции впервые рассмотрел лишь Гершензон – в 1919 году (то есть с роковым опозданием на два года).
А недавно по телевизору выступала одна моя старая знакомая. Мне она, как всегда, терзала слух, и я был поражен реакцией моего приятеля, некогда андеграундного, а ныне широко признанного поэта: он счел выступление полезным.
– Но тон, стиль! – упорствовал я.
– Ну что стиль?!. – сказал поэт, сам безупречный стилист. – Она говорила правильные вещи, особенно нужные сейчас, когда свободы под ударом. Вот мне предстоит появиться в той же программе, и я не уверен, что со своими узкими интересами окажусь полезным народу.
– А может, для народа, то есть, собственно, для интеллигенции, которая смотрит эти передачи, ваш индивидуалистический опыт самоотделки гораздо ценнее, чем очередные прописи в назидательном советском ключе? И вообще, стиль содержательнее содержания. Тартюф, например, говорит только хорошее, но так, что все видят его насквозь.
… Ну, не все, почти все. Все, кроме Оргона – до поры до времени, и его матери, г-жи Пернель, – до самого конца.
Беда, если кому не повезет с мамой.
9 апреля 2005 г.
Хотя Женька был младше и ниже ростом – был и остается, только теперь это все равно, – ведущая роль сразу отошла к нему. Мы познакомились по возвращении из эвакуации, то есть в августе сорок третьего; мне было почти шесть, ему четыре с половиной.
Солнечным утром я вышел во двор и увидел мальчика в темно-синей эспаньолке с красной каймой по двугорбому контуру (словари такой эспаньолки не дают, но эта производная от испанской пилотки на слуху у людей нескольких поколений). В руках у него был сачок, которым он собирался накрыть вившуюся над цветком бабочку. Он заговорил, и я услышал слова капустница, крапивница, махаон, мертвая голова.
Женька собирал бабочек, рыбок, почтовые марки, имел полный пуговичный состав футбольной «Лиги А». Кроме настоящих, у него были марки вымышленной кошачьей страны с портретами королевской династии – Василия I и II, Игруна IV и других, нарисованных его дядей. В отца-поэта [2] и дядю-художника Женька был выдумщиком. Когда я болел, мама, вообще строгая, пускала его, чтобы он развлек меня последними известиями из царства котов и рассказами про ноувежского чоута. Так сложилась моя ориентация на владеющего целым особым миром товарища, и позднейшие союзы с друзьями-соавторами следовали готовой прописи.
Двор был непроходной и сравнительно безопасный. Когда-то на месте дома стояла церковь, а на месте скверика располагалось кладбище. Женька находил в земле кресты и старые монеты. Весной мы пускали по ручьям кораблики, то есть щепочки, чья быстрее. С ребятами играли по мелочи в пристенок, всем двором, включая девчонок, – в двенадцать палочек.
Некоторое разнообразие вносили забредавшие во двор чужие ребята. Прибегал истеричный Шухат, то ли страдавший недержанием мочи, то ли шутовски его изображавший. Однажды кометой пронесся Коля Захаренко из Хилкова переулка, остервенело скандируя:
Бляди, бляди, бляди, бляди —
Оторвали хуй у дяди!
Появлялся Валя Шилин, живший в квартирке на углу Метростроевской и Хилкова, которую им выгородили по какому-то блату. Они с матерью приехали из Сибири, и Вера Артемьевна обшивала окрестных мальчишек штанами передовой кройки с особым хлястиком спереди; мама очень ее ценила. Валя рассказывал небылицы о своих сибирских подвигах. Потом они опять куда-то уехали, а теперь, я посмотрел, дом снесен, заменен более роскошным, и на месте их угловой квартирки – винный бутик «Кауфман».
Армей придумал Женька. Заговорщическим тоном он сообщил мне, что секрет мужественности – в простой солдатской пище, всухомятку поедаемой на марше. Она укрепляет, закаляет, воспитывает выдержку. В подтверждение этой спартанско-почвеннической идеи он сделал непреклонное лицо, сжал кулак и одновременно притопнул ногой. Не поверить было нельзя. Мы созванивались и, тайно похитив из дому черного хлеба, колбасы и вареной картошки, сходились на нежилой верхней площадке лестницы, около чердака, чтобы разъесть честно поделенные припасы. Это называлось выноси на армей. Духом армея были в дальнейшем овеяны для меня мельчуковские турпоходы, а в Санта-Монике я приобщил к нему Катю. Под небом Калифоронии походная аскеза неизбежно окрасилась в расслабленные, хотя и диетические, тона: собачью колбасу сменили апельсины, папайя, манго.
Спортивная жизнь двора тоже проходила под знаком минимализма. Прыгали в высоту – через протянутую веревку. А играли в игру собственного изобретения под англизированным названием плей-ин-болл . Мячом служила тряпичная подушечка, сброшенная из окна второго этажа мамой, которая больше не могла видеть, как мы бессмысленно слоняемся по двору. Она сшила мячик, предложила название, придумала правила. Игрок стоял в воротах шириной в три-четыре метра, помеченных кирпичами, и, подбросив мяч левой рукой, волейбольным ударом правой старался забить его в ворота противника. Играли в дальнем, самом уютном конце двора, около первого парадного. Несмотря на нищенскую незамысловатость, плейнбол продержался несколько лет, пока не появились футбольные мячи, волейбольные сетки и другие предметы роскоши.
На всем этом узнается легкий отблеск истории – гражданской войны в Испании, военной бедности, моды на еще не предавших союзников, – причем во вполне доброкачественном варианте. Если к кому применима формула «Мы ничего не знали», так это к детям. Из штрихов тоталитаризма задним числом вспоминается разве что престарелый член кооператива Шеин, с толстовким именем отчеством Иван Ильич, но – опять-таки задним числом – подозрительно чернявого и носатого вида. Он носил темный френч и сапоги, ходил медленно, говорил, по-сталински взвешивая каждое слово. Но никого, вроде бы, не преследовал, видимо, довольствуясь чисто портретным вхождением в роль.