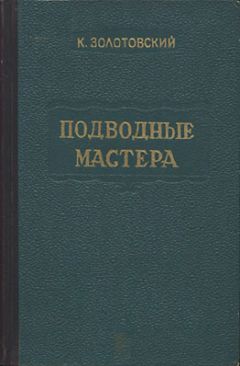Утром ребятишки выехали на лодке удить рыбу. Закинули червяка как раз туда, где «Память Азова» лежал. Они-то не знали, конечно, куда закидывают и много ли рыбы в этом месте. А я знаю.
У Новороссийска в море лежал корабль. Корабль был старый, и решили водолазы разделить его на куски, а машины, по возможности, достать целиком.
Стали мы рвать корабль толом. Тол — это взрывчатое вещество. Он сильнее динамита и в воде не мокнет. А на вид — самое безобидное желтое мыло в жестяной коробке.
Оторвали мы палубу и подняли наверх. Принялись за внутренность корабля.
Мне было поручено оторвать машину — донку. Взял я в руки заряды в жестяных коробках.
Сошел с баркасного трапа и погрузился под воду. Бережно держу коробки, будто это не заряды, а тонкие фарфоровые чашечки, которые чуть надавишь и хрустнут. Собственно говоря, жестяные коробочки с толом можно давить сколько угодно, да в них положены медные капсюли, а в этих капсюлях капризная гремучая ртуть. Того и гляди зацепишь электрический шнур, который тянется от капсюлей вверх на баркас, ну и взорвешься вместе с зарядом, разлетишься на мелкие кусочки. А зацепиться легко. Ведь, кроме шнура от зарядов тянутся за мной с баркаса еще телефонный провод, шланг и сигнальная веревка. За всем этим наблюдать надо.
Осторожно спустился я на корабль, не взглянул ни разу на рыбешек и медуз, которые суетились вокруг. Всё время вверх смотрел, чтобы не перепутались мои провода да шланги.
А когда взглянул вниз, себе под ноги, — увидел, что вишу я над самым кораблем. Странным показался мне этот корабль без палубы. Будто вырвали у него стальной живот, оголили ребра, а внутрь накидали железо, помятое как бумага.
И всё это наделали коробочки тола, — вот такие, как у меня в руках.
Опустился я внутрь корабля, осторожно пробрался в машинное отделение и увидел донку.
Это небольшая машина, которая сосет воду для кочегарных котлов.
Давно уже не работала донка. Въелись в нее мелкие водоросли, а кое-где — ракушки и зелень.
Принялся я за работу. В местах крепления донки заложил коробки тола. Говорю в телефон: «Заряды заложены».
Сверху отвечают: «Хорошо, выходи наверх».
Поднялся я на баркас. Снял шлем, а костюм не снимаю: после взрыва надо мне опять под воду спускаться.
Отошел наш баркас от опасного места. И тут старшина Киндинов соединил электрические шнуры от моих зарядов со взрывательной машинкой.
— Товсь!
Все так и замерли на своих местах.
Киндинов крутнул ручку «адской машины». Под водой глухо рявкнуло.
А через полминуты над морем взлетел водяной столб и разбился в стеклянные орешки. Долго ходили круги по воде.
Потом баркас опять привели на старое место — над взорванным кораблем. Я снова спустился на дно, но уже без зарядов.
Над кораблем медленно расплывалась ржавая муть от взрыва.
Дойка лежала на боку. Заряды отстригли ее от креплений будто ножницами. Я осмотрел ее и сказал наверх:
— Донка оторвана, спускайте строп!
Спустили. Конец стропа улегся у самых моих ног. Затянул я им донку и кричу в телефон:
— Застроплена, поднимайте!
Сверху ответили:
— Есть, — и начали поднимать донку.
Ржавая муть еще не разошлась, мешает смотреть в стекла, а рваное железо путается под ногами. Шагнул я в сторону, чтобы меня донкой при подъеме не задело, и куда-то левой ногой провалился. Дергаю ногу, а нога не вылезает. Я нагнулся, разгреб железный мусор и увидел: попала моя нога в узенькую дорожку междудонного отсека. Только я это сообразил и начал ногу вытаскивать, как меня дернули и потащили кверху.
«Зачем тянут? Ведь я же не давал сигнала?»
Взглянул я наверх, а донка уже высоко надо мной поднялась, и сразу всё понял: зацепился мой сигнал за донку. «Как же это я про него забыл!»
А донка всё поднимается, всё тянет меня за сигнал. Тянусь я, как резиновый, а проклятая нога засела в дыре. Поднялся бы я на сигнале вслед за донкой, да своя же нога не дает.
Что тут делать!
Начал сигнал на мне затягиваться всё туже и туже. Удавкой меня стиснул. Кричу в телефон:
— Стоп поднимать донку! Стоп! Трави обратно!
Не отвечают сверху, — тянут. Не расслышали, что ли? Прохрипел я из последних сил:
— Стоп поднимать!
Прижимаю ухо к телефону. Молчат наверху.
А я уже и ноги своей не чувствую, — скрутила меня удавка и душит.
Одно у меня в голове: сейчас либо пополам перережут, либо ногу оторвут.
«Лучше бы уж ногу», — думаю. И вдруг над ухом явственно:
— Ты что спрашивал?
— Трави донку обратно! — кричу я в телефон и сам своего голоса не слышу.
Сразу ослабел на мне сигнал, перевел я дух. Гляжу: донку обратно спускают всё ниже и ниже. Протянул я руку, сорвал с нее сигнал и распустил петлю на поясе. Вот когда вздохнул я свободно. Отдышался и вытащил ногу из железной дыры. А нога будто не своя, даже мурашки по ней не бегают.
Говорю в телефон: «Выхожу, поднимайте!» Когда сняли с меня шлем на баркасе, я первым делом спросил у ребят:
— Почему не отвечали, когда кричал?
— Телефон у нас что-то разладился, — говорит Киндинов. — Минуты три чинили.
Три минуты! А мне показалось, что три часа меня веревкой резали…
— Как же это так? — спрашиваю. — Что вы за телефоном своим не смотрите? Меня из-за него чуть на две половины не перерезало.
А Киндинов отвечает:
— А ты чего за сигналом своим не смотришь? Знаешь, у нас, старых водолазов, поговорка есть: «На телефон надейся, а сигнал не забывай!»
Ни в Черном море, ни в Азовском, ни в Каспии не встречал я цветных медуз. Все были прозрачные, студенистые и молочные. Яркая, цветная медуза водится на Севере.
Когда мы плыли Белым морем на подъем затонувшего ледокола «Садко», увидел я с борта, как поднимается из синей глубины яркий комок. Так и переливается огненно-красным светом.
— Гляди, какие тут медузы занятные, — сказал мне товарищ.
Одна, другая, третья… Я смотрел на них и оторваться не мог. А потом привык. За Полярным кругом, где мы работали, таких медуз великое множество.
Да что медузы!
В первый раз, когда я спустился с баркаса на ледокол, показалось мне, что подо мной не дно морское, а настоящий сад.
Прозрачная вода в глубине моря увеличивает всё, что кругом видишь, — листья у растений огромные и качаются будто перед самым твоим иллюминатором.
Ухватился я рукой за никелированный поручень капитанского мостика, стравил золотником воздух и опустился на палубу.
Со времен первой мировой войны лежит здесь «Садко».