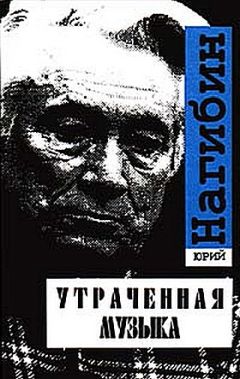Видимо, жестокий сердечный приступ стащил его со скамейки на траву, а сейчас боль немного отпустила, и он пытался вернуться на скамейку. Мимо него то и дело проходили люди: мужчины, женщины, девушки с такими длинными и стройными ногами, какие увидишь только в Англии, юноши в срамно обтяжных джинсах, крепкие спортивные дети, но никому не вспало на ум помочь несчастному старику или хотя бы сдержать шаг. Самые щедрые из них позволяли себе беглый, равнодушный взгляд. Солнце стояло так, что тени прохожих проскальзывали по беспомощной фигуре на газоне, тени теней — не бесплотных, но вполне бездушных.
Когда мы приблизились, стало видно, как крупен, даже громаден поверженный на траву человек, правофланговый любого воинского строя. Он вполне мог быть по своему типу лондонским полицейским в дни войны, когда в полицию отбирали самых рослых, сильных и телом и духом людей. Храбрость и самоотверженность лондонских полицейских, хладнокровно несших уличную службу во время самых ожесточенных бомбежек столицы, известны всему миру. Годился он и в морскую пехоту, куда тоже не брали слабаков. А в мирной жизни ему пристало быть рудокопом или шахтером — руки выдавали человека, привычного к тяжелому физическому труду. Но сейчас ему не помогла былая сила. Да и что стоят все мускулы человека, если отказал главный, тот, что в грудной клетке?..
По усиливающемуся встать гиганту скользнула тень быстренького клерка в черном котелке, медленно проползла тень священника в сутане — где же милосердный наклон Учителя к страждущему? — чуть задержались, колышась, тени влюбленных или просто юных блудодеев, решивших поцеловаться прямо против загибающегося человека, прокатилась, по-чеховски, колесом тень собаки, а потом долго влачилась тень коляски с младенцем и толкающей эту коляску молодой женщины, и снова тень клерка, тень матроса, неспешащая тень уличного ротозея, тень солдата, тени, тени, тени. И наконец, мы с переводчиком накрыли старика нашей общей тенью, чтобы помочь ему подняться.
Он странно принял нашу попытку: с легким ироническим любопытством и словно бы с легкой досадой: мол, занимайтесь-ка лучше своими делами, едва ли они у вас в таком блестящем порядке, чтобы тратить время на посторонних. Чувствовалось, что старик сердится на себя — развалился не к месту! — но не имеет никаких претензий к равнодушным соотечественникам. Он был тяжеленек и неуклюж от слабости, я же и сам сердечник, мне запрещено подымать тяжести, а толмач хоть молод и здоров, но в весе блохи. Нам пришлось изрядно повозиться, прежде чем мы перебазировали центнер с гаком на скамейку. Старик все приговаривал: «Да ладно… ладно уж… Идите своей дорогой!» А оказавшись на скамейке, оглядел нас с насмешливой симпатией и произнес топом утверждения, но вопроса: «Иностранцы, конечно».
Мы вроде бы ничем себя не выдали. Одежда? На нас лондонские костюмы. Произношение? Я помалкивал, а переводчик владел языком так: в Ист-сайде говорил как заправский кокни, в Вест-сайде как лондонский аристократ, в Америке его принимали за потомка первых переселенцев, а в Кении — за белого негра. Внешне же он — вылитый лондонский клерк, только без котелка. Я спросил: «Как вы догадались?» — «Ну, это нетрудно. Англичанин никогда бы не стал помогать». Тяжелая кровь медленно отливала от его лица, оставляя обычную лиловую сетку. «Неужели англичане такие жестокие?» — «Ничуть. Стариков слишком много, всем не поможешь. Ну, подняли вы меня, а через десять шагов я опять свалюсь. Люди стали слишком долго жить. Единственное спасение от таких, как я, — не замечать».
Он говорил спокойно, без осуждения, как о чем-то само собой разумеющемся в предназначенном ему бытии. Так можно говорить о тумане или смоге. Конечно, ясная погода лучше, но что поделаешь, такой уж климат. Столь же непреложным казался ему и нравственный климат его родины. «Люди слишком трудно живут, — повторял он. — Нельзя ни с кого требовать…» Тут не было и следа религиозного смирения, юродства во Христе, нет, — тяжелый жизненный опыт, приучивший точно знать свои возможности, знать, на что можно рассчитывать среди себе подобных. «О стариках много пишут в газетах», — заметил переводчик, тщательно следивший за лондонской прессой. «Пустое, — сказал старик. — Не заставишь любить стариков, когда у всех одна забота: как бы уцелеть». — «Где же выход?» — спросил я. «А почему должен быть выход? — Старик тихо засмеялся. — Лучше всего дело поставлено у гренландских эскимосов: дряхлых родителей оставляют в снежной хижине. Это хоть без дураков. Нам тоже дают подыхать, но под газетную вонь. Гренландский способ самый чистый, но у нас не пройдет, нет снега, климат гнилой…»
Слышал ли, что говорил этот бедный старик, другой старик, стоящий рядом на пьедестале? А если слышал, то как ему там, в трех посмертных обиталищах: на тихом фамильном кладбище, под мраморной плитой Вестминстера, в бронзовой фигуре посреди Лондона? Если б мертвые видели последствия дел своих! Не кто иной, как Черчилль швырнул этого старика со скамейки на траву, и он же научил лондонцев проходить, не оглядываясь, мимо затухающей жизни, научил безразличию друг к другу, оставив в опустелых душах одно — страх за себя единственного…
Англия открывалась мне в разных образах: впервые я попал в Лондон во время негласного всемирного съезда хиппи. Они забили Пикадилли-серкл своими живописными фигурами, как голуби — площади итальянских городов. Сколько бород, усов, огненных грив, загорелого тела, изношенных джинсов, гитар и песен! На них яростно нападали блюстители нравственности, но они были куда безвредней и симпатичней нынешних, потребителей марихуаны, озверелых: мотоциклистов; или тех, в черных кожаных пиджаках, от которых разит фашизмом.
Я широко, охватно видел Англию в пору погожей ранней осени, в золоте и ржави густой, необлетевшей листвы, под синим промытым, упруго выгнутым небом, Англию маленьких городов: исторических, университетских и просто провинциальных; видел Ковентри с ошеломляющей спайкой двух соборов: старого, растерзанного бомбежкой, и прильнувшего к нему нового — дива дивного современной архитектуры; видел Англию феодальных замков, заросших влажных парков, брошенных кладбищ, которые все же не были так мертвы, как нынешний Сохо, некогда звенящий квартал блистательного лондонского разгула; видел и деловую Англию Сити и заводских районов Бирмингема, и все же самым сильным образом Англии осталось для меня двуединство стариков: бронзового, которому уже ничего не страшно, и другого, которому тоже ничего не страшно, хотя он состоит из слабого умирающего тела, но ему не страшно, ибо нечего жалеть о мире, созданном первым стариком.