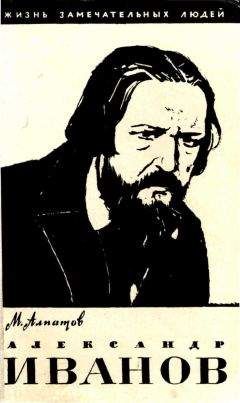Наконец кончилась гора, лошадь пошла быстрее. Седоки всматриваются в приземистые деревянные дома.
Кажется, этот!
Молодой человек в очках спрыгивает с телеги, бежит к дверям и, не найдя колокольчика, сильно стучит кулаком.
Заспанная кухарка кивает головой куда-то в глубину дома.
Молодые люди проходят во флигель. На пороге в распахнутом халате их встречает черноволосый человек лет двадцати. Он радостно смеется, хватает в объятья гостей и тащит в комнаты.
— Господи, Чернышевский! Да каким счастливым ветром вас занесло в этакую, выражаясь высоким штилем, юдоль провинциального свинства, грязи, скуки?
— Погодите, погодите, друг мой! Прежде всего мы просим снисхождения за столь раннее вторжение, затем объявляем вам, что пробудем в сей провинциальной юдоли два дня, и, в-третьих, познакомьтесь, мой кузен — Саша Пыпин.
— Я рад, очень рад. Михайлов, Михаил Илларионович!
Пыпин в продолжение этой сцены с интересом рассматривает Михайлова, о котором столько слышал от своего брата. Так вот он каков поэт, ходячий справочник по зарубежной литературе, знаток европейских и неевропейских языков и писец 1-го разряда Нижегородского соляного управления.
Он невысок ростом, очень строен, скорее даже худ, невероятно подвижен. Но больше всего Пыпина поражает лицо Михайлова. Оно просто страшно; черные густые брови крутыми полукружьями обрамляют узкие, разрезанные по-калмыцки глаза. На них тяжело навалились красноватые веки. Для того чтобы открыть глаза, Михайлов поддергивает брови, поэтому его лицо все время перекашивается гримасами. Большие очки только отчасти скрывают этот недостаток. Пыпин знает, что Михайлов в детстве перенес операцию век. Операция позволила ему видеть, но, конечно, он остался обезображенным па всю жизнь.
Черные-черные с отливом волосы и на редкость красные губы.
В сером халате в сумраке мезонина он напоминает летучую мышь. Пыпина даже передернуло.
Зато голос у Михайлова такого приятного, звучного тембра, что хочется слушать и слушать.
И он говорит без умолку, быстро, образно, остро.
Извинившись перед братьями, Михайлов на минуту скрывается в спальне и выходит оттуда уже без халата, в сильно поношенном сюртуке, сидящем на нем, однако, безукоризненно.
Чернышевский хватает друга в объятья, всматривается, смеется:
— Ты все такой же франт, а я, брат, по-прежнему попович. Знаешь, Саша, как мы познакомились с ним в университете?
И, не дожидаясь, когда Пыпин скажет «знаю», Чернышевский уже в который раз с удовольствием рассказывает, как на первой же лекции Михайлов обратил внимание на бледненького близорукого студента в сереньком форменном сюртуке.
— Вы, вероятно, второгодник? — спросил он меня.
— Нет, — говорю, — а вы, должно быть, судите об этом по сюртуку?
— Да.
— Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке.
Михайлов смеется раскатисто, заразительно, Чернышевский — сдержанно, но глаза его светятся радостью.
С этого сюртука началось знакомство, которое теперь, с годами, стало тесной дружбой людей с одними мыслями, одними целями, едиными взглядами на жизнь.
— Но тебе пора в управление, — Чернышевский говорит Михайлову то «ты», то «вы».
— Как бы не так! Пока вы у меня, я для управления не существую. Скажусь больным…
— А поверят? — с опаской спрашивает Пыпин.
— Ха! Обязаны поверить представителю благородного российского дворянства, потомку князей.
Пыпин смотрит на Михайлова с недоумением.
— Да, ваш кузен, наверное, и не знает, что по линии матери я прихожусь внуком генерал-лейтенанту Уракову, «киргизскому» князю, а со стороны отца — я потомок крепостных. Вот и получается, что слову князя в соляном управлении поверить обязаны, ну, а как крепостная бестия, я могу и обмануть начальство.
Пыпин только теперь понял, почему у Михайлова такой косой разрез глаз.
Все, что он сейчас услышал, пробудило любопытство.
Между тем Чернышевский разгружал телегу от домашних припасов, которыми его заботливая мать снабдила братьев на дорогу.
За завтраком, затянувшимся далеко за полдень, Михайлов и Чернышевский настроились лирически и все больше вспоминали свои петербургские дни.
Михайлов говорил о них с грустью человека, для которого Петербург только прошлое, Чернышевский, вспоминая столицу, мысленно был уже в ней, забыв о Саратове, с которым так недавно и с таким сожалением расставался.
Михаил Илларионович с большим юмором рассказывал, как в 1846 году он отправился в Петербург, дабы поступить в университет. Гимназии ему окончить не пришлось, а посему предстояло выдержать вступительный экзамен.
Михайлов блестяще провалился, будучи плохо подготовленным то курсу казенных наук, и должен был довольствоваться местом вольнослушателя.
— Вы знаете, моя петербургская жизнь напоминает мне гору, по которой вы добирались сюда. И я катился с нее неудержимо вниз. Прибыл в столицу этаким фертом. Квартиру снял на Невском, у своего же бывшего гувернера-француза. Платье от лучшего портного. Но истратился быстро и перебрался на Гороховую, но и на этом склоне не удержался, а скатился к самому концу Вознесенского проспекта. Денег после смерти батюшки совсем не осталось. Вотчин у выслужившегося вольноотпущенного крестьянина не было, а детишки были, были и кое-какие долги. Так на Вознесенском и завершилась моя карьера студента.
Чернышевскому в этих словах слышатся горечь, сожаление об университете. А стоит ли он того? Михайлов слишком недолго пробыл в его стенах, и поэтому ему и по сей день представляется, что это храм науки. А на деле — та же казенная богадельня или скорее казарма, из которой изгнано все живое. Казарма и канцелярия — вот опора наук. И, конечно, священное писание. Оно неистребимо, им прикрывается убожество чинуш в профессорском звании, оно, как талисман, охраняет от крайностей, столь нетерпимых правительством.
— Поверите ли, ведь так же, как и в двадцатых годах, некоторые, с позволения сказать, профессора определяют гипотенузу в прямоугольном треугольнике как «символ сретения правды и мира, правосудия и любви через ходатая бога и человека, соединившего горнее с дольним, небесное с земным». Вот и выведите отсюда катеты! — под общий хохот заканчивает Чернышевский. Да, но что приобрел Михайлов, устроившись через дядюшку писцом в соляное управление? Если смотреть с точки зрения чиновничьей карьеры, то он преуспевает, как всякий добросовестный служака, которому совершенно чужды интересы порученного дела. Из писца 1-го разряда его в феврале этого 1850 года произвели в коллежские регистраторы, а в ближайшем будущем ему обещана должность столоначальника.