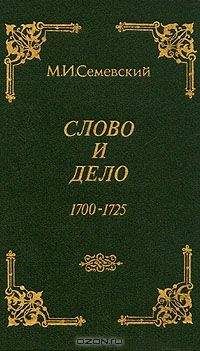Во время гражданской войны я был в Крыму. В это время его захватили белые. Там я встретился с Вс. Мейерхольдом, который свел меня с семейством Альперсов, и мне устроили через врачей фальшивое свидетельство, освобождающее от службы в Белой армии, и я смог проехать в Грузию морем. А в Москве распространился слух, что я пойман белыми и за мои большевистские выступления и статьи в «Известиях» избит. Позже мне рассказывали, что Маяковский выступал по какому-то поводу и с большим сочувствием говорил, что вот наши товарищи пострадали там-то и там-то. Видимо, после этого он сохранил ко мне теплое чувство.
О Маяковском я неоднократно разговаривал с Есениным. Но Маяковский и Есенин были слишком разные. Во всяком случае, я не помню, чтобы Есенин недоброжелательно отзывался о нем. Он, может быть, иногда высказывался отрицательно, но не недоброжелательно. Есенин, как умный человек, прекрасно понимал значение и силу Маяковского. Если он этого не кричал на литературных собраниях, то потому, что считал, что это его единственный соперник, и это не удивительно: весь вопрос состоял в том, по какому пути пойдет развитие поэзии — по пути Маяковского или по пути Есенина? Но внутренне он его очень уважал. Если бы Есенин относился к нему враждебно или недооценивал, это сразу бы чувствовалось. Он его прекрасно понимал. Но у Есенина была очень сильно развита субъективность. Например, Маяковский мог читать стихи других, а Есенин — никогда, т. е. он мог похвалить стихи друзей, но обязательно говорил: «Вот, подожди, я тебе прочту сейчас».
А потом я стал секретарем Луначарского. Приемы велись в Зимнем дворце. Жил я тогда на Лихтинской, и мне стали подаваться дворцовые лошади. Лошади были парные, хотя я просил одноколку. И наркомы просили тоже подавать им одноколку. Покрыты лошади были синими сетками.
Одно время секретаршей у Луначарского была Лариса Рейснер. Когда она заболела, Луначарский и привез меня в Зимний. Вход был с набережной. Там у него было две комнаты, в одной кабинет, а в другой — приемная. И была еще столовая, куда в определенные часы царские лакеи, в перчатках, подавали завтраки всем советским сотрудникам. Ели за круглым столом обыкновенные вещи, но сервировка была прекрасная. Когда Лариса Рейснер заболела, я стал исполнять ее обязанности, а потом, выздоровев, она вновь вступила в свою должность. И тогда ее мать, жена профессора Рейснера, встретив меня однажды и желая уязвить, сказала: «Лариса не будет работать больше. И вообще, надо сказать, она не гонится за этими постами. Наши предки столько уже властвовали, что мы устали от этого. Власть нам не нужна».
Сама она графиня Строганова какая-то.[14]
Как-то мы ехали куда-то с Ларисой и на кого-то наехали. Жертв не было, но публика собралась, поднялся шум, нам пришлось выскочить, я — в один подъезд, она — в другой, — потому что толпа начала слишком уж выступать против комиссаров. Мы выскочили, а синяя попона поехала одна.
Луначарский и Маяковский часто встречались, причем Маяковский всегда говорил Луначарскому какие-то умышленные дерзости, но любя.
Когда мы переехали в Москву, я стал бывать в кафе в Настасьинском переулке. Приходил туда и Луначарский. Посещали его Маяковский, В. Каменский, Шершеневич, Спасский,[15] было много других поэтов. На этих вечерах часто выступал Маяковский и читал много своих стихов.
Об этом кафе шла скандальна слава: вечные крики, издевательства над толстыми людьми, острые шутки и всякие пикантности.
Приходилось мне неоднократно разговаривать с Луначарским о Маяковском. Анатолий Васильевич говорил, что это настоящий большой поэт. Правда, как нарком, он относился к нему несколько снисходительно. Но это происходило не грубо, просто чувствовалось, что за плечами жизнь, ссылки, эмиграция, а это — молодежь. Маяковский ему нарочно дерзил: «Ну что там у вас? Это наркомовские крысы! Да ваши чиновники…» Вот в таком роде. У него на вечерах часто бывали стычки и с Шершеневичем.
В 1918 году в газете «Анархия» было помещено несколько моих статей. Одна из них — «Стальной корабль» — была о Маяковском.[16] По поводу этой статьи я с ним беседы не вел, но помнится, кто-то мне говорил, будто она произвела хорошее впечатление. Действительно, если вы пишете в защиту, в тот момент, когда вокруг человека все рушится, ясно, что такая статья вызывает удовлетворение.
У нас с ним никогда не было столкновений, даже по поводу имажинизма, к которому он относился отрицательно, но личных разговоров об этом я не помню. А что касается отрывка из воспоминаний Шершеневича («Уберите эту сволочь…» и т. д.), этого эпизода я не помню. И даже знаю наверняка, что его не было.
Очень интересный человек был Велимир Хлебников. Я бывал у него в семье, и нигде не видел такого беспорядка, как у Хлебникова, — нагромождение каких-то атласов, книг, и все это было перемешано: и книги, и подушки, и всякие вещи, и старые рваные газеты. Создавалось такое впечатление, что люди не относились серьезно к своему быту, все это не суть важно.
У нас была замечательная поездка из Астрахани в дельту Волги. С нами ездил Подъямпольский из наркомпроса по каким-то служебным делам. Небольшой пароходик был отдан в наше распоряжение. Это было в 1918 году. Я пригласил с собой Хлебникова. Плыли мы сутки, даже чуть больше.
О Маяковском с Хлебниковым я не помню, чтобы говорил. Да и вообще, говорить конкретно с Хлебниковым было очень трудно. Есть один замечательный документ, составленный Хлебниковым. Он его диктовал, а я писал. Это называлось «К народам Азии!» — от лица как бы нашего мироощущения; что мы преображаем мир, и как бы такие тезисы, воззвание, что ли, к народам Азии о том, что за Азией будущее. Издано это не было.
Я всегда любил фотографироваться. У меня сохранилась фотография, где сняты я, Есенин, Николай Бурлюк, Кульбин,[17] Георгий Иванов, В. Гнедов. А Маяковского там, к сожалению, нет.
Встречаясь с Брюсовым, я никогда не слышал никаких враждебных высказываний в адрес Маяковского, который не воспринимал Брюсова по-настоящему, так как эмоционально они были совершенно разные. Маяковского могло тянуть только то, что исходило из глубин, настоящее.
Очень любил Маяковского Михаил Кузмин. Я несколько раз слышал от него положительные отзывы в разные годы. Несмотря на полную противоположность, он очень высоко ставил поэзию Маяковского.
Анна Ахматова, до некоторой степени, как и Есенин, была настолько сосредоточена в себе, что чужое понять ей было трудно. Но как умная женщина она понимала, что это большое явление. И никто не мог этого отрицать, но выраженного отношения не было.