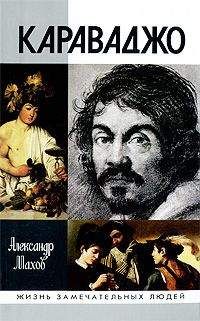Всякий раз, когда Микеланджело невзначай встречал во дворце неунывающую и полную радости жизни «графинюшку», его охватывала неимоверная радость от того, что былые его страхи за неё были напрасны, и он забывал про опасения по поводу её здоровья. Но после каждой встречи рука вновь тянулась к перу. В тетради возникали новые рисунки с милым профилем, а однажды под ними появились строки, написанные торопливым пером:
Дрожу, твой лик увидев просветлённый,
Но не похож я боле на ловца
И, словно рыба, клюнув на живца,
Взмываю на уде, как подсечённый.
Коль сердце неделимо пополам,
Я целиком тебе его вверяю —
Чего ещё желать отныне мне,
Когда влеченью чувств отдался сам?
Но ими я, увы, не управляю.
Ты — мой костёр, и мне гореть в огне! (15)
Она как-то появилась в садах Сан Марко, куда пришла вместе с братом Джованни, который сиял от радости и по-дружески поделился с Микеланджело новостью о том, что ему обещана кардинальская шапочка. Её отец выхлопотал у дышащего на ладан папы Иннокентия VIII — с ним Медичи породнились недавно, выдав вторую дочь Лоренцо Маддалену замуж за папского «племянника» не первой свежести Франческетто Чибо.
— Микеланьоло, напишешь мой портрет, когда я стану кардиналом? — весело спросил Джованни.
Кроме служения церкви, второй сын Лоренцо не видел для себя иной цели в жизни, хотя от отца ему передалась любовь к светским наслаждениям, особенно чревоугодию и соколиной охоте, которой он предавался, несмотря на близорукость. Джованни Медичи стал не только кардиналом, но и римским папой Львом X, первым из клана Медичи. Но Микеланджело несмотря на дружбу, связывавшую их в юности, так и не написал его портрет, поскольку любимым художником папы Льва стал молодой и более сговорчивый Рафаэль.
Один из воскресных ужинов носил особенно торжественный характер, когда за столом собралась вся семья Медичи. Микеланджело впервые увидел старших дочерей Лоренцо — поблекшую Лукрецию и толстушку Маддалену с мужьями. Рядом с отцом сидел старший сын Пьеро с женой Альфонсиной Орсини, которая при знакомстве смерила Микеланджело презрительным взглядом, словно какого-нибудь конюха.
Небольшой оркестр под руководством маэстро Кардьера, красивого жгучего брюнета-южанина, ублажал слух сотрапезников музыкой, пока слуги убирали лишнее со столов, меняли приборы и вносили новые блюда, подаваемые из кухни на лифте.
Сидевшая рядом с Микеланджело Контессина просвещала его о присутствующих на аристократическом рауте.
— Вон в чёрном камзоле, — поясняла она, — сидит ректор греческой академии, основанной моим отцом, в которой преподают многие учёные из Константинополя. Рядом с ним литератор Веспасиано да Бистичи, автор известного труда «Замечательные жизни» о мастерах искусства. Чуть дальше любимый архитектор отца Джулиано Сангалло с каноником Мариано. Здесь же иностранные послы, чьи имена мне неизвестны. А вот и моя шумливая родная тётушка Наннина Медичи с мужем-литератором Бернардо Ручеллаи.
Это имя заставило Микеланджело вздрогнуть и вспомнить о своей матери. «Как бы порадовалась мама, — подумал он, — увидев сына за одним столом с самими Медичи! Думаю, что и отцу было бы такое лестно увидеть. Ведь для него так важно сознавать, сколь знатен его дворянский род, хотя порастерявший состояние, но не утративший собственного достоинства».
Праздничная атмосфера дворца не тронула Микеланджело. Ему претили вся эта роскошь и деланое веселье, хотя и льстило присутствие рядом обожаемой Контессины, которая, как всегда, была весела и приветлива. Несмотря на её просьбы не исчезать надолго, он старался избегать воскресных застолий, предпочитая им скромный обед в родительском доме в кругу семьи, где не нужно соблюдать никакой этикет.
Мысли о Контессине не оставляли его, а она всё чаще стала появляться в садах Сан Марко, где её живо интересовало всё. В ней чувствовались унаследованная от отца любовь к искусству и тонкость вкуса, несмотря на юный возраст. Умный Бертольдо понимал, видимо, причину столь частого посещения любимицей Лоренцо школы ваяния и радовался её присутствию. Она любила наблюдать за работой Микеланджело, которому льстило её внимание, и он предложил ей однажды порисовать. Она охотно приняла его приглашение и предложенные им лист бумаги и грифель. С удивлением он увидел, что это у неё неплохо получалось.
Как же она непохожа на своих капризных и чванливых братьев! Сколько в ней врождённой простоты и благородства. Всякий раз, когда он подправлял её рисунок, она одаряла его улыбкой и с радостью принимала любую его подсказку.
— У тебя лёгкая рука, как у волшебника, — поражалась она, рассматривая свой исправленный им рисунок.
Для Микеланджело это были счастливые мгновения. Особенно ему льстило, что Контессина за советом обращалась к нему или к Бертольдо, не обращая внимания на присутствие Торриджани — тот постоянно пытался попасться ей на глаза, но, к немалой радости Микеланджело, так и не удостоился её взгляда.
О его тогдашних настроениях говорят стихи с их юношеским максимализмом, когда чувства затмевают разум, а рука с пером не в силах остановиться:
Как жить, моя отрада?
Посмею ль я вдали от вас дышать,
Раз не дано надежду мне питать?
А вздохи или горькие рыданья,
Которым предавался в дни печали,
Без лишних слов вам, дева, показали,
Какие я терпел от вас страданья,
И коль не улыбнётся мне судьба,
Готов отдать вам сердце на закланье,
Чтоб вспоминали верного раба (12).
Но столь откровенные излияния он тщательно прятал подальше от сторонних глаз, особенно от болтливых слуг, а потому сам застилал постель и выносил мусор. Он горел на работе в садах Сан Марко, не замечая времени, оставаясь равнодушным к жизни во дворце и раскрывшемуся перед ним миру роскоши. Для него сущей мукой было соблюдение дворцового этикета, когда приходилось напяливать на себя осточертевший камзол и обувать блестящие остроносые башмаки с пряжкой. Насколько же вольготнее ему было вместо чопорного ужина во дворце посидеть с другом Граначчи в ближайшем трактире и отвести душу! Они говорили о своём житье-бытье и о будущем, которое им, особенно Микеланджело, рисовалось в радужных тонах. Граначчи ценил, что его талантливый друг предпочитает скромную трапезу с ним пышному дворцовому застолью.
Глава VII «ПЛАТОНИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» И ПЕРВЫЕ УТРАТЫ
С рождения пленён я красотой
И высшее в том вижу назначенье.
За кисть иль за резец берясь рукой, —