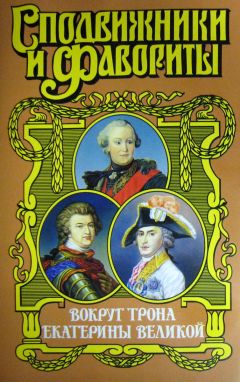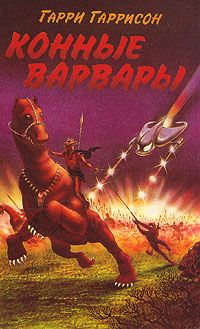Нельзя сказать, чтобы она так уж была привязана к Анете: с самого рождения тётушка-матушка Елизавета отняла её у Екатерины, разрешала видеться с нею лишь раз в месяц, как и со старшим сыном Павлом. Не испытывала Екатерина особо нежных чувств к дочери, не любовалась её полными неуклюжими ножками. Не при ней пошла и сделала первые шаги Анета, не при ней кормили её мучной кашей, не при ней давали из рожка молоко, и только толстые крепкие кормилицы могли с нежностью гладить её светлые белокурые волосики, и только Елизавета могла вдоволь играть со своими внуками. Нет, не питала особенной любви Екатерина, и тем не менее сердце у неё щемило — дочка досталась ей гораздо тяжелее, чем Павел, её рожала она с трудом, долго болела после родов и думала об Анете с нежностью и гордостью. Виделось, что подрастёт она и станет гордостью матери и русского двора, начнёт уже в десять лет носить фижмы[15], а в двенадцать обрежут ей по русской моде ангельские крылышки, которые прикрепляли на спине у императорских детей, — таков был их ангельский чин, и моду эту ввёл ещё Пётр Великий.
Но Анета не дожила до своего совершеннолетия, умерла совсем крохой, едва-едва опередив два года, и когда Екатерина видела её, как всегда, крайне редко и недолго, то умилялась её пухленьким пальчикам и перетянутым, словно ниткой, ножкам, славной круглой попкой и целовала её в тугие щёчки и в голубые глазки, хоть и отворачивалась Анета от матери — ей была дороже её кормилица с широкой тугой грудью и объёмистым животом, с большими мягкими и добрыми руками, на которых так сладко спалось.
За несколько недель до смерти Анеты Екатерина получила скорбное сообщение, что умерла в Париже её мать, страстная любительница писать письма, умевшая, перескакивая с одного на другое, строчить обо всём и ни о чём. И эти несколько недель Екатерина пребывала в тоске и тревоге: мать вела слишком широкий образ жизни, задолжала огромные деньги, легкомысленно полагая, что дочь заплатит её долги — за шикарный дом, поставленный на королевскую ногу, за роскошную ложу в опере и выезд под стать самой царице. Много раз отсылала она Елизавете свои счета, даже не сомневаясь, что свекровь-тётка Екатерины обязана заплатить, если не хочет прослыть в Европе скаредой. Елизавета нимало не смущалась, что так будут о ней думать в Париже, и не платила долги своей навязавшейся ей на голову родственницы, но всё-таки после долгих споров и слёзных молений невестки согласилась заплатить часть их. И все последние дни Екатерина страшно волновалась при одной лишь мысли, что всё имущество матери может пойти с молотка, а её любовные записки станут предметом скандала. Всё-таки порицала Екатерина свою мать, но и старалась помочь ей. Война обратила мать Екатерины, принцессу Цербстскую, в нищую, заставила бежать из Гамбурга, где приютился её сын, в Париж, но своё пребывание здесь она сумела сделать для себя приятным и разнообразным.
Только-только кончились волнения Екатерины, связанные с кончиной матери, как настали дни траура по Анете...
Она ещё боялась высунуть из-под атласного одеяла голую руку и с нетерпением ждала, когда придут в её опочивальню дежурные фрейлины, чтобы зажечь огонь в камине, наполненном дровами с вечера. Несмотря на второй месяц весны, в летнем дворце всё ещё было холодно, и туда опасались переезжать, а здесь, в Зимнем, натопленном и обжитом, к утру вытягивало всё тепло и надо было обязательно протопить, чтобы не простудиться, став ногами на выстывший ледяной пол.
Екатерина ждала, взглядывала на тяжёлые дубовые резные двери, но никто не шёл, колокольчик стоял на прикроватном столике довольно далеко, и ей тоже холодно было тянуться за ним.
И снова студёные мрачные мысли подступили вплотную: всех, кого она любила, кто испытывал хоть какие-то тёплые чувства к ней, великой княгине, растеряла она в последнее время. Бестужева отправили в ссылку, хоть и не столь жестокую, как можно было ожидать, Чернышевых разогнали по отдалённым гарнизонам, Салтыков томился в Гамбурге — ему не разрешали приезжать в Россию, Понятовского изгнали из страны, Владиславову удалили от двора. Никого кругом, с кем можно было бы хоть посмеяться от души. Даже всегдашний её товарищ по всяческим забавам Лев Нарышкин, и тот отдалился от двора — теперь он женат, и семейные заботы поглощают его время. Никого рядом, она, как всегда, одинока и заброшена, она чувствует, что такой одинокой и заброшенной она ещё не была никогда...
И снова слёзы навернулись на глаза Екатерины. Хоть бы кто-нибудь заглянул в её опочивальню, хоть бы кто-нибудь сказал ей доброе слово, хоть бы одна живая душа подумала, что и ей может быть холодно утром, когда выстыли все печи и сквозняки гуляют по огромной зале, этой высокой зале с громадными окнами, плохо прилаженными, настолько плохо, что из всех их щелей дует и просвечивает. Она панически боялась сквозняков с тех самых нор, когда рожала Павла, и её оставили лежать на холодном полу, на кожаном матраце, в мокрых простынях, без помощи и внимания.
Вспомнив об этом, она опять было залилась слезами, но пересилила себя и всё-таки встала, сама подбежала к громадному камину и принялась растапливать его. Приготовленная с вечера береста тут же скрутилась в тугую пружину, медленно, синеватым пламенем охватилась и вспыхнула, облизывая бока берёзовых дров, на которых береста тоже начала загораться синим дымком.
Екатерина посидела перед камином, согреваясь от ещё нежаркого огня, потом оделась в тёплый длинный стёганый капот, сунула ноги в меховые тёплые шлёпанцы и выглянула в приёмную, постеснявшись звонить в колокольчик, видно, рассчитывала, что фрейлины ещё спят, и посовестилась будить их. Громадная зала приёмной, где должны были дежурить фрейлины, казалась пустой. Но у самого дальнего окна, придерживая шторы руками, сгрудились почти все её девушки, с десяток её приближённых. Нет, они не спали, они сосредоточенно и внимательно следили за кем-то через двойные рамы окна, ещё не подготовленного к лету и всё ещё законопаченного паклей.
Екатерина встала на пороге своей спальни и довольно долго наблюдала за своими фрейлинами. Они уже были одеты и причёсаны, правда, не в фижмах и кринолинах, как полагалось, но в утренних туалетах, а причёски их были верхом мастерства придворного куафёра[16].
Странно, они стояли тихо, в самых разных позах, кто пригнувшись, кто прильнув к самому стеклу, и вытягивали шеи, стараясь разглядеть что-то или кого-то за окном, не пропустить ни одного мгновения.
Екатерина подошла поближе, нарочно шлёпая своими меховыми башмаками, чтобы привлечь внимание своих девушек. Напрасная трата времени. Никто не повернулся, никто даже не взглянул на неё ни одним глазком.