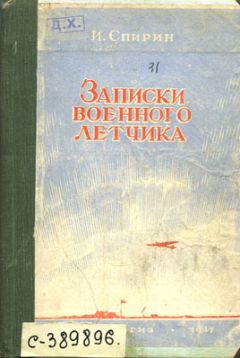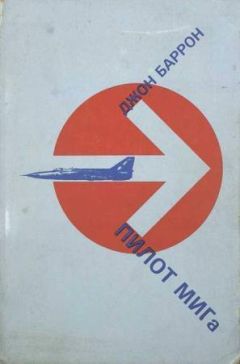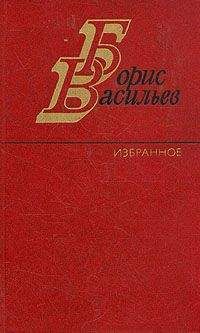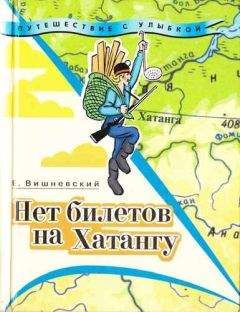Но Михаил Васильевич не унимался и продолжал кричать через весь стол:
- Ты это благородство брось, а то ведь все съедим!
- Верно, что вы не едите? - подхватил еще кто-то, приставая на этот раз к Петенину.
- Да мы уж раньше поели… пока жарили, - беспомощно отбивался мой подручный…
Я бросил на него строгий взгляд. Растерявшись, он продолжал нести какую-то чепуху и выдавал нас с головой. Уж кое-кто за столом начал подозрительно переглядываться, зашептались… И крах наступил. На сковородке оставались две котлеты. Один из обедавших встал и решительным жестом положил их передо мной и Петениным. Воцарилось молчание. Мы к котлетам не прикасались.
- Ешьте, - сказал кто-то грозно. [110]
Сопротивляться дальше было бессмысленно. Мы переглянулись и, едва сдерживая смех, отчаянно вонзились зубами в распроклятые котлеты, заранее ощущая противный сладковатый запах бензина. Кают-компания не сводила с нас глаз. Мы жевали и смотрели друг на друга во все глаза. Что за чудо? Котлеты были чудесные и ничем не пахли. Проглотив последний кусок, я уставился на Петенина.
- Ну? - только сумел произнести я.
- Выдохлись, - мрачно ответил Петенин. - Совершенно выдохлись. Зря только мы не ели. Такая досада.
И мы рассказали все.
Долго еще хохотала вся компания над нашей трагической историей. А мы сидели голодные, мрачно размышляя об удивительном свойстве авиационного бензина бесследно улетучиваться из куриных котлет, сыгравших с нами такую каверзную штуку… [111]
Диспут о страхе
А кто из вас знает, что такое страх, товарищи? - неожиданно спросил парторг экспедиции и тем самым положил начало необычайному диспуту, воспоминание о котором навсегда останется в моей памяти.
Это было на Северном полюсе. Мы сидели в просторной кабине флагманского самолета «Н-170», служившей нам по вечерам кают-компанией, где по установившемуся обычаю мы проводили свой досуг.
Был поздний вечер четырнадцатых суток нашей жизни на знаменитой ныне папанинской льдине. За тонкими стенами нашего крылатого корабля завывал порывистый ветер, а в слюдяные окна, несмотря на поздний час, яростно пялило желтый глаз неугасающее солнце полярного дня.
В описываемый вечер в кают-компании флагманского самолета было особенно оживленно и шумно. В одном конце «салона» играл патефон, безустали повторявший излюбленную всеми песенку об «отважном капитане», в другом - темпераментно разыгрывался шахматный турнир на звание «Чемпиона Северного полюса». Из штурманской рубки доносились обрывки какого-то громкого литературного спора. На сдвинутых к заднему отсеку мешках и ящиках расположилась группа «королев домино», а рядом с ними, не смущаясь шумом, вели оживленную беседу любители охоты на зайцев, - рассказам этих охотников позавидовал бы сам Мюнхгаузен.
В такой мирной обстановке странный вопрос парторга прозвучал как внезапный выстрел и заставил [112] мгновенно смолкнуть шум. «Страх»? Это слово было здесь мало популярно… Его повторяли, как слово из чужого, плохо знакомого языка. На удивленных лицах отразилось живейшее любопытство и нетерпение.
- Очередной розыгрыш, не иначе, - раздался в наступившей тишине чей-то веселый голос.
Парторг экспедиции славился неистощимым запасом шуток и каверзных «розыгрышей», являвшихся обычно гвоздем программы вечеров в кают-компании. Но на этот раз он держал себя настолько непривычно серьезно, что предположение о розыгрыше пришлось оставить. Кают-компания была заинтригована и ждала объяснений. Единственным человеком, посвященным в смысл необычайного вопроса парторга, - был я. Один я знал, что поводом для него послужило мое сегодняшнее приключение, о котором я успел рассказать ему двумя часами раньше. Откровенно говоря, в этом событии не было ничего особо выдающегося, и лично я, возможно, не придал бы ему никакого значения. Но наш парторг отличался удивительной способностью извлекать глубокий смысл из самых незначительных событий и делать их предметом общего обсуждения. Верный себе, он сумел я на этот раз поставить перед кают-компанией неожиданный и острый вопрос о том, что составляло смысл, вернее - самую бессмыслицу, моего приключения, - вопрос о страхе, видимо, потому, что это было именно то чувство, которое, едва ли не впервые в жизни, мне пришлось сегодня испытать. Идея парторга обсудить всем коллективом это нелепое происшествие очень понравилась мне, и я охотно повторил кают-компании свой рассказ.
В это утро - утро четырнадцатых суток на полюсе - я проснулся раньше обычного. Сверенные с Москвой часы показывали шесть. Рядом, согревшись в своем спальном мешке, мирно похрапывал Михаил Васильевич Водопьянов. Крепко спал и мой второй сосед по палатке - Отто Юльевич Шмидт. Мне спать больше не хотелось. Осторожно, стараясь не разбудить товарищей, я вылез из своего мешка, быстро оделся и вышел из палатки. В небе едва угадывалось скрытое облаками солнце. Утро было похоже на сумерки. Лагерь спал. Бодрствовал лишь дежурный радист Сима Иванов, несший вахту у рации флагманского самолета, и наш [113] общеполюсный любимец - щенок «Веселый», прилетевший недавно в лагерь с самолетом Мазурука. Я окликнул его и отправился навестить Иванова.
- Ну, как дела, Сима? - спросил я, входя в радиорубку. - Есть Москва?
- Утренний выпуск «последних известий» передают, - ответил флаг-радист, сдвигая наушники. - Вот послушайте. Сообщают, что в ближайшие дни мы покидаем льдину.
Я надел наушники и услышал далекий голос диктора, читавшего текст радиограммы, которую мы сами несколько часов назад отправили в Москву.
Мы посмеялись этой рикошетом возвращенной нам новости, успевшей за короткое время совершить прогулку в эфире от полюса до столицы и обратно, и, усевшись на ящиках с аккумуляторными батареями, заговорили о всяких предотлетных делах.
- Вот так всю жизнь: не успели оглянуться, а уже приходится улетать, - шутливо проворчал Иванов, записывая задания, и принялся торопливо проверять аппаратуру, собираясь сдать вахту я поскорей улечься спать. Я просмотрел поступившие за ночь радиограммы и оставил его одного.
Облака поднялись выше. Ветер прорвал в них круглое, похожее на иллюминатор оконце. Сквозь него проглянул клочок чистого голубого неба. Погода обещала быть хорошей. Я вспомнил о своем давнишнем желании заняться на досуге фотографией и решил вернуться в палатку за «лейкой».
Проходя по все еще спящему лагерю, я почему-то вспомнил шутливую фразу Иванова: «не успели оглянуться, а уже приходится улетать», и невольно задумался. В самом деле, тринадцать суток жизни на полюсе пролетели незаметно. Казалось, только вчера лыжи нашего краснокрылого флагмана впервые коснулись льдины. Это было где-то совсем рядом, недалеко от того места, где я теперь проходил. Я вспомнил, каким необычайно острым и волнующим показался нам тогда этот первый момент… Толчок, короткая пробежка по мягкому снежному ковру, последний стук как-то сразу замерзших винтов и наступившая затем внезапная тишина… Это была необыкновенная, никогда до сих пор [114] не слыханная нами тишина, грозная и величественная. Даже ветра не слышно было. Молчали и мы. В этом странном всеобщем оцепенении было что-то волнующее и тревожное. Тысячи мыслей успели пронестись в голове за несколько секунд, которые показались тогда вечностью. Каждый из нас ждал, что вот-вот раздастся страшный, оглушительный треск, льдина не выдержит тяжести машины, расступится и… все будет кончено.