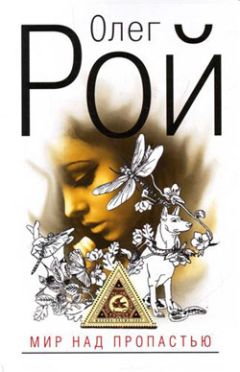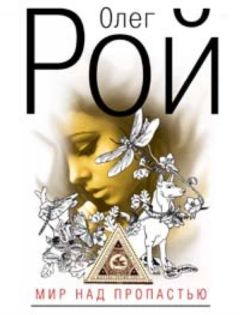их Костя Страментов с Лилей Костаки пригласил к своей сестре Маше и наверняка Маша не будет против, если я со Светой и Володя с Мариной присоединимся к ним.
Костю Страментова я знал, еще учась в МИСИ, его отец был деканом одного из факультетов нашего института. Правда, сам Костя учился в архитектурном, но у него была приятельница, Лена Скот, которая училась в моем институте, ее сестра, Маджи, училась вместе с моей сестрой в хореографическом училище, теперь они обе работали в Большом театре. Я часто бывал у Лены в гостях и там познакомился с Костей. Я знал, что у Кости есть сестра — необыкновенная красавица, так все о ней говорили. Но я ее ни разу не видел.
И вот мы все шумной компанией заваливаемся в гости к этой самой Маше.
Я как только ее увидел, сразу загрустил: почему я не один сегодня, а со Светой...
Вечер получился чудесный. Костя принес много выпивки и закуски из «Березки» (он был женат на дочери ныне знаменитого коллекционера Костаки, в то время всего лишь администратора посольства Канады в Москве, поэтому чеки, на которые продавались продукты в «Березке», у него всегда были), Федя Фивейский остроумнейшим образом комментировал разлив заморских напитков и закусь к ним, Володя иногда брал гитару и что-то пел смешное «для общего ливера» — в общем, было очень весело и мило.
Комната была небольшая, но уютная, и, когда в ней стало чуть душновато, Маша встала, чтоб открыть дверь балкона. Кто-то сидящий у этой двери ей мешал, и она потянулась через спину сидящего, чтоб повернуть ручку балконной двери. При этом движении Машино мини-платье чуть задралось и приоткрыло почти полностью ее ноги. Я обомлел. Никогда в жизни я не видел более стройных и красивых женских ног. Это меня «добило» окончательно. Я уже не говорю о ее лице, напоминающем чем-то Одри Хепбёрн в «Римских каникулах», только в варианте более аристократичном и более пикантном.
Через неделю Светлане надо было возвращаться в Магадан (у нее отпуск был короче моего). А еще через несколько дней я позвонил Маше и пригласил пообедать. Она согласилась.
Так начался наш роман.
И уже мы, как любил говорить Володя, «гуляли по буфету» вчетвером — он с Мариной, я с Машей.
Однажды днем — я был дома у себя на Горького — позвонила Марина и сказала, что они с Володей скоро будут у меня.
Когда я им открыл дверь, то по лицу Марины понял: что-то произошло.
— Марина, что с тобой?
— Со мной — ничего. А ты посмотри на своего друга...
Володя был, что называется, «в пополаме».
— Ну, ничего, сейчас он немного поспит и придет в себя.
— Гарик, какое поспит! Сейчас уже четыре, а у него вечером «Гамлет»!..
— Что же делать, Марин, я не знаю...
— Я тебя прошу, Гарик. Поезжай в театр, скажи Любимову все как есть, что Володя не может сегодня играть, пусть заменяют спектакль, — сказала Марина.
Я поехал. Попросил, чтобы меня проводили к Юрию Петровичу, и очень коротко объяснил, что случилось.
— Передайте вашему другу, что я сегодня же издаю приказ о его увольнении из театра. Всё. До свидания.
Все это было сказано жестко, спокойно, даже, мне показалось, с какой-то расстановкой слов, чтобы, видимо, было понятно, что это всерьез, а не просто очередная угроза.
Я вернулся домой. Володя вроде бы вполне оклемался, даже порозовел.
— Васёчек, Марина сказала, что ты в театр ездил и что...
— Юрий Петрович сказал, что сегодня же издает приказ о твоем увольнении.
— А-а-а! — почти зарычал Володя.
Он резко поднялся, подошел к столу, налил полстакана водки и выпил залпом. И вскоре опять отключился.
Мы с Мариной вышли на кухню. Марина молчала и плакала. Моя мама ее утешала, гладя по голове, как ребенка.
— Надежда Петровна, — сквозь слезы еле слышно говорила Марина, — он же себя погубит. Я просто в отчаянии! Не знаю, что делать.
Марину моя мама сразу, как говорится, приняла. Помимо того, что она была просто само очарование, она была такой естественной, никакой «звездности» в ней не наблюдалось, и в то же время аристократизм чувствовался во всем — в манере себя вести, в сдержанности суждений, в стиле одежды. И еще — в ней угадывалась очень чуткая и широкая душа.
Когда Володя был в нормальном состоянии, он, казалось, светился весь от счастья, потому что с ним рядом такая женщина. А она и вправду словно создавала вокруг удивительное умиротворение и радость. И моя мама почувствовала в Марине это редкое, истинно женское качество.
Вскоре она уехала, взяв с Володи слово, что тот ляжет в больницу.
Его действительно поместят в очень хорошую клинику, в отдельную палату со всеми удобствами. Я с Машей буду его навещать, и в одно из посещений он нам прочитает удивительную повесть про дельфинов — такой фантасмагорический ход, будто не мы наблюдаем и изучаем дельфинов, а они нас.
Выпишется из больницы он где-то в начале декабря, начнет играть все свои роли — в общем, все наладится.
Новый, 1969 год мы будем встречать в мастерской у скульптора Федора Фивейского, прославившегося своей работой «Сильнее смерти», получившей на Всемирной выставке в Брюсселе золотую медаль (уже давно этот памятник стоит в Русском музее в Петербурге), — остроумного балагура, бывшего в свое время одним из авторов и участников знаменитых капустников в Союзе художников на Беговой улице. К новогоднему вечеру он тоже напишет небольшой капустник, в центре которого будет любовь Володи и Марины.
31 декабря у Володи был какой-то вечерний спектакль, который кончался поздно, поэтому встретить Марину в Шереметьеве он попросил Севу Абдулова. И вот уже половина двенадцатого, а их все нет. Володя места себе не находил. Я как мог его успокаивал, а он все причитал, что вот, мол, первый Новый год вместе и такой облом...
Наконец, без десяти двенадцать в дверях мастерской показываются Марина и Севочка.