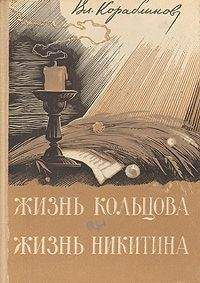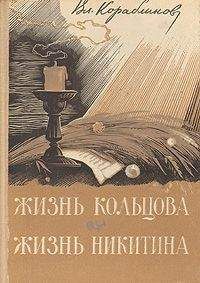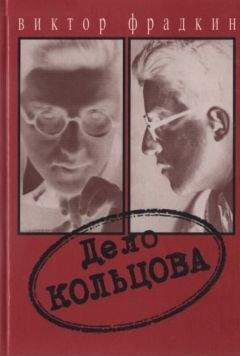– Саша! – робко спросил Кольцов. – Так что же мы должны-то? Что?
– Действовать! – твердо сказал Кареев.
Этим летом Кольцов больше жил в Воронеже. За выпасами поблизости досматривал сам старик. Зензинов с весны уехал на Линию.
На лесном дворе затеяли строить новый дом. Старшие девушки – Анюта и Саша – заневестились. Небогатый, но смирный и дельный мещанин Золотарев заслал к Анюте сваху. Старики Кольцовы согласились, и свадьбу решили сыграть на осеннюю казанскую.
Новый дом на лесном дворе шел за Анютою в приданое. Вот на постройке этого дома Кольцов и проводил почти все время и даже жил там у приказчиков в маленьком, полутемном кильдимчике.
Жизнь на лесном дворе нравилась Алексею. Тут было чисто, пахло свежими опилками и смолой, с утренней зари жужжали пилы стучали топоры. Улица заросла травой и лопухами. Глубокая, со стоячей, зацветшей водой канава тянулась вдоль пустынной улицы. Как-то раз тут нашли труп избитой и порезанной женщины. Анюта дерзко сказала отцу, что он как хочет, только она не станет жить на вонючей канаве. «Чего-о?!» – исподлобья глянул старик. Анюта заплакала. Ей стало завидно, что вот покойница Маша была женой богача Башкирцева, а тут приходится идти за какого-то Золотарева, который хотя и хорош собой, и любит ее, да по бедности смотрит из батенькиных рук.
Все это были глупости, выдумки, бабьи бредни, как говорил Василий Петрович. Дом достраивался, на веревках, растянутых по двору, выбивались и проветривались идущие в приданое лисьи салопы и ротонды, – Кольцовы готовились к свадьбе.
В конце августа появился Зензинов. Он пришел на лесной двор, черный от степного загара, запыленный и слегка подвыпивший. Алексей в это время с аршином в руках мерял скаты крыши для расчета с кровельщиками и малярами.
– Василич, хватит считать, слазь, дело есть! – крикнул ему Зензинов.
У Кольцова сердце похолодело, и аршин, вывалившись из рук, загремел по железу. Быстро, чуть не сорвавшись с лестницы, он слез с крыши, молча за руку поздоровался с Зензиновым и увел его в свой кильдим.
– Ну что? Ну?! Ну?! – отрывисто кидал вопросы Кольцов, ухватив Зензинова за отвороты кафтана. – Был? Узнал? Что? Сказывай!
– Да погоди ж ты, черт! Всю душу вытрясешь…
Зензинов оглянулся на дверь и, пригнувшись к Алексею, сказал:
– Ну, слухай… Дворник энтот, Кирюха-то, он все знает… Он. стало быть, и Дуняшку сам с нашего со двора увез…
Степь, степь, степь…
Трое суток переливалась она перед глазами то рыжими, обгорелыми буграми, то мутно-серебряными волнами ковыля, то сизой гарью далекого пожара.
Ветер свистел. Голенастые дрофы, не боясь всадника, равнодушно глядели на него. Хоронясь в кустах чернобыла, злобно брехала вслед рыжая, с белыми подпалинами лиса.
Облака шли и не шли. Время, казалось, остановилось. В ушах не умолкал шум, и сердце стучало, как молотки в кузнице.
На четвертые сутки Кольцов спросил у встречного казака, далеко ль до бехтеевских выселок? Казак остановил быков, поглядел на Кольцова и сказал, что нет, недалече, вон за тем курганом.
– За могилой, – махнул рукой.
Лошадь взяла было рысью, но Кольцов придержал ее и поехал шагом. Надо было обдумать, что делать.
Три дня назад, никому, кроме Зензинова, не сказавшись, он выехал из дому и все это время скакал, давая лошади самые малые передышки, чтобы только покормить или напоить ее. Сам он забыл и про еду и про сон. Он помнил одно только, что где-то на затерявшемся в горячей, окаянной степи хуторке – на бехтеевских выселках – умирала его Дунюшка.
Что же надо было ему делать и как ее выручить, Кольцов до сих пор не думал.
Он поднялся на курган и огляделся. Перед ним лежала все та же степь. Далеко, почти у самого горизонта, белели три мазанки да одинокий ветряк лениво махал дырявыми крыльями. Солнце зашло за облачко, по рыжей траве резво бежала темная облачная тень.
Кольцов спрыгнул с седла и, заслонясь от солнца рукой, жадно, до рези в глазах, стал смотреть на хутор.
Там никого не было видно, только что-то сверкало, как молния. «Наверно, мужик косу точит», – подумал Кольцов.
Он лег на горячую землю, закрыл глаза и вспомнил все, что рассказал ему Зензинов.
Кирилл принял Зензинова неласково и не сразу разговорился,
– Чумовой какой-то, – говорил Зензинов. – Дикой человек… Там при мне баба его приходила, так она полдни, почитай, в ногах у него валялась, и выла-то, и что ни что, а он, – чертяка, сидит как идол, прости господи, молчит, только все за свою сережку – дерг! дерг! Опосля того вскочил, поймал неоседланную кобылу и – айда в степь… Чумовой, право!
Алексей угостил Зензинова водкой и сам выпил граненый пузатый стаканчик, а больше отказался.
– Чудак! – усмехнулся Зензинов. – Нет, ты, Василич, не обижайся, ты чудной человек, а я все равно тебя люблю! Да-а, – продолжал, опрокинув еще стаканчик, – махнул это он в степь – и? нету его. Ну, баба, конечно, еще малость повыла и ушла. Вот уж солнцу садиться, гляжу – вертается мой Кирюха, кобыла боками ворочает, – загнал, шутоломный! Бросил ее, пошел в избу. Я – за ним. Вот он распечатал штоф, говорит: «Пей со мной!» А меня, ты, брат, сам знаешь, по этому делу два раза не просить. И пошло у нас с ним! – захохотал Зензинов. – Дальше – больше… Разговорились, значит, он мне всю историю с бабой своей выложил. Вот я и говорю: чего, мол, ты ее казнишь, чем она виновата? Барин ведь, куды ж денешься! – «Ну, это, говорит, ты брось! Барин! Вот, говорит, у нас был случай. Привезли мы ему однова аж с Воронежа, – купил он себе там девку, – так она и погладиться не далась. Только он к ней, а она – хоп его ножичком! Право… Вот те и барин!
Зензинов потянулся было опять налить, да глянул на Кольцова – и испугался. Стиснув зубы, он сидел бледный, с закрытыми глазами; поперек лба чернела толстая жила, щека под глазом дергалась.
– Эх, дурашка, – наливая стаканчик и поднося его Кольцову, ласково сказал Зензинов. – Выпей, легше станет… Право, легше!
Это, точно, была Дуня.
Она пырнула пьяного Бехтеева его же охотничьим ножом, убежала и кинулась в пруд, да ее вытащили, связали и привели к барину. Отставной майор был труслив, такого отпора он не встречал еще никогда, и, хоть ранка была пустячная, царапина просто, – он лежал на диване, обложенный подушками и примочками. Взглянул на связанную Дуню и отвернулся, охая.
– Приведите Тютеньку, – простонал.
Пришел Тютенька. Это был дурачок лет сорока, оборванный, грязный, с идиотской улыбкой на безбородом бабьем лице. Тютенька хвастал, что он природный донской казак, очень гордился этим и носил старые затрепанные штаны с полинявшими лампасами. Он очень неясно и неверно говорил, гугнявил, коверкал слова и все мужского рода называл в женском, а женского – в мужском. Над ним смеялись дворовые люди и дразнили его Казаком и Тютенькой.