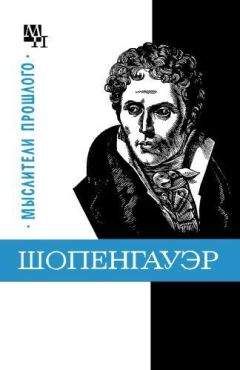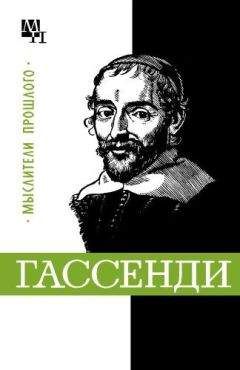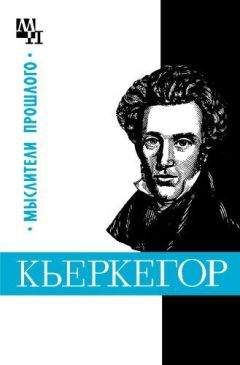Что общего у него, гения, с „обыкновенными людьми“, с „простым народом“, с „чернью“? Те исторические деятели, которые, умея руководить и править массой человечества, выступают борцами в мировых событиях, вовсе не „„истинно великие люди“; для этого пригодны люди с гораздо более ограниченным умом“ (5, II, 220), к которым он относится с высоты своего отрешившегося от воли к жизни и борьбе интеллекта.
Никогда, ни до, ни во время, ни после революции 1848 г., Шопенгауэр не принимал прямого участия в какой бы то ни было общественной, а тем более политической деятельности. Вообще вся общественная жизнь для него „есть непрерывное разыгрывание комедии“ (7, I, 29). Тем не менее он имел совершенно определенные, твердые и неизменные политические убеждения. Его принадлежность к буржуазноконсервативному образу мыслей своего времени не может быть подвергнута сомнению», — признает В. Рёд в номере западногерманского журнала, посвященном столетию со дня смерти Шопенгауэра (52, XIV, 401). Его лишенная всякой оригинальности, тривиальная, неприкрыто реакционная теория государства — неопровержимое тему доказательство.
Исходя из идущего еще от Платона и развитого Гоббсом договорного понимания происхождения государства, Шопенгауэр считает, однако, что устанавливаемое с появлением государства право, закон сами по себе бессильны; они приобретают значимость лишь при посредстве принуждения, насилия (Gewalt); «От природы, стало быть, первоначально на земле властвует не право, а сила» (7, II, 292).
Зачем необходимо государство? Каково его назначение? «Государство, — отвечает Шопенгауэр, — это не что иное, как охранительное учреждение, ставшее необходимым вследствие тех бесчисленных посягательств, которым подвергается человек и которые он в состоянии охранить не в одиночку, а только в союзе с другими людьми» (5, II, 618). Государство — противоядие человеческому эгоизму, врожденной несправедливости человеческого рода. Без этого не было бы надобности ни в каком государстве, представляющем собой самооборону от принципа homo homini lupus. Не будь государственных затворов и цепей, разразилась бы гроза анархии. Государство и есть тот намордник, который сдерживает звериные зубы человеческого существа. «Поэтому, если представить себе государственную власть утратившей силу, т. е. этот намордник сброшенным, — то всякий понимающий содрогнется перед зрелищем, какого тогда надлежало бы ожидать» (5, IV, 190). Перспектива отмирания государственной власти неизбежно повлекла бы за собой всеобщую свалку, в которой люди перегрызли бы один другого.
Шопенгауэр воспевает карательное право государства как главную опору человеческого сосуществования. Глубочайшее заблуждение, «будто государство есть учреждение для споспешествования морали… Еще превратнее теорема, будто государство есть условие свободы в моральном смысле и тем самым морали» (6, 360). Ничуть не бывало: «Государство ни малейше не заботится о воле и образе мыслей…» (там же, 359).
Категорический императив Канта совершенно ошибочно обосновывает оправдание государства как моральную обязанность. Государству нет дела ни до какой морали. Его дело не помыслы и побуждения, а лишь совершенные поступки, злодеяния. Аморальные корни эгоизма его нисколько не заботят. Государство совершенно не направлено против эгоизма вообще, а исходит «из суммирования общего эгоизма всех и существует только чтобы служить ему». Оно направлено не против эгоизма, как такового, а только против неизбежных его последствий, проистекающих из столкновения «множества эгоистических индивидуумов» (там же, 360). Государственное принуждение и наказание исходят из убеждения в естественной порочности человечества.
Вот почему государственная власть не может и не должна допускать никакой свободы. «Избави нас бог от всякой свободы!» — восклицает Шопенгауэр в письме к Квандту (от 28.1.1849). «На свободу печати, — изрекает он, — следует смотреть, как на разрешение продавать яд: яд для ума и души» (7, II, 298). Всякая свобода, всякая демократия грозит бесчинством, анархией. Свобода выборов, определяющая политическую линию большинством голосов, не учитывает такой простой вещи, что среди людей преобладают не добрые, а злые.
Какую же форму государственного правления следует предпочесть? «Устройство человеческого общества, — по мнению Шопенгауэра, — колеблется, как маятник, между двух зол» — деспотизмом и анархией. Из этих двух зол следует избрать меньшее. А гораздо менее опасным, чем анархия, является деспотия. «Следовательно, — заключает он, — всякое государственное устройство должно приближаться гораздо более к деспотизму, чем к анархии» (5, IV, 426); «Конечно, народ самодержавен, однако это вечно несовершеннолетний самодержец, который поэтому должен стоять под постоянной опекою и никогда не может распоряжаться своими правами» (7, II, 292).
Отсюда до предпочтения монархического строя республиканскому — один шаг. К чему приводит республиканский государственный строй? Взгляните на Соединенные Штаты Америки: «При полном материальном процветании страны — низменный утилитаризм, невежество, англиканское ханжество, глупое чванство, животная грубость, скудоумное поклонение женщине. Вопиющее рабство негров, открытое издевательство над правом и законностью в верхних сферах» (7, II, 301) — вот вам образец республики! Классовая сущность, экономический базис политической надстройки остаются, конечно, для Шопенгауэра, если говорить его языком, за покрывалом Майи. «Республики склонны к анархии, монархии — к деспотизму» (6, 358). Стало быть, монархия предпочтительнее. «Монархическая форма правления естественна и свойственна человеку… Напротив, республиканская система… противоестественна и несвойственна человеку» (7, II, 304). Притом не конституционная монархия, при которой «государи сходны с богами Эпикура» (там же, 307), а «абсолютная, не ограниченная никакими законами, наследственная монархия, когда в лице одного человека полностью сконцентрирована независимая ни от какого права совершенно безответственная власть, перед которой все преклоняются, как перед существом высшего порядка, властелином божьей милостью» (3, V, 269; 7, II, 300). Кто говорит «а», должен сказать и «б»; превознося наследственную монархию, Шопенгауэр воздает должное и ее авангарду: «Дворянство, как таковое, приносит двойную пользу, помогая, с одной стороны, охранять право собственности, а с другой — прирожденные права государя» (7, II, 310).
Упомянутое в этой фразе право собственности занимает видное место в социальных суждениях Шопенгауэра, в его трактовке «триединства» функций «охранительной власти» государства, одной из которых является обеспечение частного права.