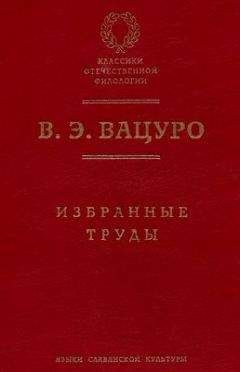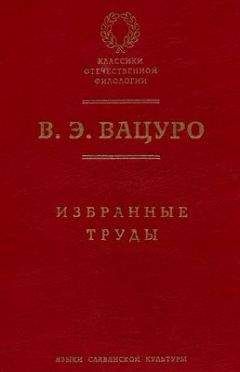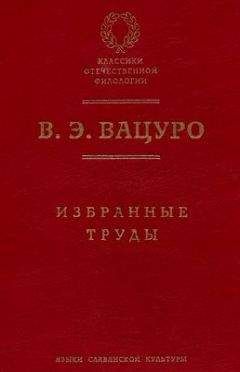Вы прощаете меня, сударыня! вы возвращаете мне ваши милости! Нет! я обманываюсь: большая часть вашего существа имеет в себе нечто божественное, и эта прелесть, эта доброта, — все это — небесного происхождения. Ах! достоин ли я единого вашего взгляда, — одного из тех взглядов, которые наполняют таким блаженством всякого, на ком вам заблагорассудится его остановить! О, если бы вы видели, сколько я перестрадал, пытаясь победить, преодолеть страсть, которая сделалась для моей души тем, чем жизненный дух является для тела, — неотделимой от моего существа. Я думал уже, что потерял навсегда сладостные мечты о счастье, мечты неосуществимые, но тем не менее драгоценные для меня, ибо они представляют образ счастья более совершенного, более ощутимого, которому я смел предаваться только в мечтаниях.
И все же мне кажется, что вы иногда словно сомневались в искренности моей любви. Увы! я ли виноват в том, что это лицо без выражения, эти глаза, лишенные огня, столь слабо выражали то, что я чувствую? Весь пламень, который не одушевлял ни моих глаз, ни моих черт, сосредоточился в моем сердце; в нем ваш алтарь, где вы окружены беспредельным обожанием. Нет! пламень столь сильный не может умереть, даже вместе с моим существом; он переживет его, он будет жить за пределами гроба и станет для моей души прекраснейшим залогом бессмертия. Я увижу там вас, сударыня, вы будете ангелом добра, который приобщит меня к вечному блаженству; без вас я впал бы там лишь в бесконечную тоску.
И вы больше не сердитесь, сударыня? вы искренне простили меня? вы не оттолкнете более сердца, которое бьется только ради вас? Ах! если бы не было свидетелей, я бы тысячекратно расцеловал тогда вашего Гектора, который заставил вас произнести те сладостные слова, которые навсегда запечатлелись в моей памяти; именно он сумел убедить вас хотя бы немного в той любви, которою я к вам пламенею. Судите же сами, сударыня, как я должен ласкать его и могу ли я смотреть равнодушно на создание, которое в некотором роде явилось моим благодетелем? и сколь драгоценную ношу я находил в нем! Я держал на руках создание, которое вы любите, сударыня, а то, что дорого вам, тем более дорого мне, ибо все ваши привязанности передаются моей душе, усиливаются и умножаются в ней!
Для меня нет большего удовольствия, чем испытывать одни с вами чувства! Если бы я мог надеяться на взаимность… но я не смею рассчитывать на это; это было бы счастьем, которого мне не дано в удел.
Итак, мне довольно моих собственных чувств, мне довольно единого преимущества, которое мне предоставлено, — осмелиться высказать их вам.
Как ваши слова, дышащие дружбой и добротой, отозвались сладким теплом во всем моем существе: «Какая милая попинька! ну кто бы поступил подобно ему!» — эти любезные слова беспрестанно звучат в моих ушах и текут по моим жилам волнами несказанного счастья. Ах! повторяйте мне чаще такие слова; их так легко сказать, — и счастлив тот, кто может столь малой ценой доставлять другим неоплатное счастье! Тот, кто делится счастьем, счастлив и сам: он счастлив сам по себе.
Вновь, сударыня, повергаю к ногам вашим свое сердечное почтение, которое вместе со всем моим существованием принадлежит вам навеки.
Среда, 8 июня, в полдень.
Вчерашнее утро прошло довольно спокойно. Я написал Мадам первое письмо после возобновления отношений, где описал мою страсть. Оно было очень длинным, это письмо, и я боюсь, что оно ее утомило; наскучить же очаровательному существу есть прегрешение против природы. Я должен был обедать с князем и предполагал идти к ней сразу же после обеда, как вдруг княгиня просит меня найти в библиотеке книги, которые она сама не может отыскать. Я скрыл досаду, которую произвело во мне столь несвоевременное поручение, поискал книги и нашел их почти сразу же. Княгиня была со мной очень любезна; я принес ей в кабинет книги, которые она просила, и она заговорила со мной об удовольствиях, которые ждут нас в деревне. Чтобы закончить разговор, я ответил, что не возражал бы остаться в городе, так как лето не обещает быть хорошим. К пяти часам я отправился на дачу г-жи П…вой. Я застал там Лопеса, который почти сразу ушел, и полковника Слатвинского. Мадам была нездорова; на качелях она получила приступ ревматизма. Почувствовав недомогание, она легла, а я вышел прогуляться. Встретил обоих Кочубеев, которые возвращались в город от княгини Лобановой; приветствовал их мимоходом. Около дачи г-на Дурнова встретил его двоих сыновей и г-на Дугольца (?), поболтал с ними, и адъютант осыпал меня знаками уважения; все они звали меня наперебой зайти к ним, но я отговорился, извинившись. Вернувшись, я застал Измайлова; Madame была еще в постели; немного спустя пришел Андреев, и она позвала его в комнату, потом захотела встать и вскрикнула от боли. Я побежал, чтобы по возможности помочь ей; вдвоем с г. Слатвинским мы ее подняли. Она была очень любезна со всеми; остальные ушли, только мы с Измайловым остались ужинать. Она была очаровательно весела. После ужина я зашел в ее спальню и видел, как она ласкала собаку Лопеса. Как я завидовал этой собаке! Я сказал ей об этом несколько раз, наконец, подошел, с жаром поцеловал несколько раз руку, а прощаясь, напечатлел поцелуй на ее губах, и она меня тоже поцеловала. Она хотела оставить меня ночевать на даче, но я извинился невозможностью, зная, что нужен князю. Несмотря на это, она велела приготовить мне постель в гостиной и сама поправила подушки. Я не мог этого выдержать, я не ушел бы отсюда до конца дней моих, я покорился, целуя ей руку… Увы? неужели я должен буду ограничиться этим? Я спал не более двух часов; когда пробило четыре, ее собака, которая поранилась днем, подошла к моей постели и разбудила меня. Она страдала, а я не могу видеть страдающее существо, не говорю уже об ее собаке. Я поднялся, взял собаку на руки и уложил ее, уступив ей мое ложе; чтобы не коснуться ее и не причинить ей боли, я оделся и отправился домой. Этот вчерашний день — один из тех, о которых я сохраню самое приятное воспоминание. Какую цену имеет в моих глазах самая ничтожная ее ласка, доброе слово, маленький знак заботливости! О, если бы я действительно был любим, как бы я умел чувствовать всю бесконечность моего счастья!
Четверг, 9 июня 1821.
Вчера утром я получил от Остолопова пригласительный билет на вечер. Билет был написан по-итальянски, и я должен был как умел отвечать на этом языке. Потом я пошел к Булгарину, чтобы пригласить и его от имени Остолопова, после чего пошел к Никитину. Я внушал ему мысль об объединении двух обществ и мог убедиться, что она ему вовсе не по вкусу.