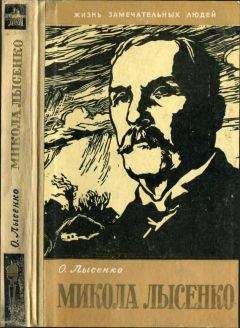Стахор с ненавистью смотрел на казаков. Не потому, что они теперь забыли о нем, и не потому, что они сейчас больше заботились о близких своих, чем об общей громаде, а потому, что не мог он простить последних часов жизни в таборе. Что не помогли ему отстоять батьку, не дать повязать его. Зачем не пустили выскочить за огорожу и в смертном бою с панами лечь рядом с отцом?
Как скоро забыли они веселого батьку Савулу, как легко, казалось ему, примирились с невозвратной потерей. У него одного сжимается болью сердце, и он один знает цену великой души человека, спасшего этих людей своей гибелью...
Он один среди живых. Без татки и без Надейки... Поздно ночью, когда уже не было сил бежать ни у пеших, ни у конных и когда стало ясно, что можно не опасаться погони, остановились в глухой балке на отдых.
Тут Стахор ушел от людей.
Ушел в открытую степь, как в другой мир. Шаг за шагом, все дальше и дальше от людских голосов, от ржанья коней, слабых отблесков походных костров. Скоро все умолкло, исчезло. Черное горе окутало цветущую степь. Темно позади, и впереди темно. Пусть...
Никого ему больше не жалко, никого больше не нужно. Шел, шел, потом упал на траву и заплакал.
Лежал хлопец посреди степи, на земле, поросшей мягкими травами, пока не уснул. И не слышал, как теплыми струями влизались в него силы нового дня.
Была черна и печальна первая проведенная в одиночестве ночь, да светел стал день.
Яркое солнце разбудило Стахора.
Пошел Стахор по степи, как по морю. Ни конца ни края. Вчера покинул людей, да, видать, было это напрасно. Захотелось встретить живую душу.
Пить, есть захотелось. Стал искать, не покажется ли где дымок, не блеснет ли речка или озерцо. Кругом высокий ковыль, голубое небо над ним, да далеко впереди обросший полынью курган.
Дошел до кургана. Взобрался на самую вершину и, сложив руки раструбом, по-казацки крикнул:
- А-гов! А-гов!
И тут отозвался ему человек. Стахор удивился, как он сразу не заметил коня, пасущегося рядом с курганом.
- Ты это, Стах? - спросил человек, поднимаясь с земли.
- Я, - радостно ответил Стахор, - это я, брат Иннокентий! - И бросился вниз, в объятия чернеца.
- Искал тебя ночь напролет, - словно оправдываясь, говорил монах, - под утро сон сморил меня, грешного.
Почему-то показалось Стахору, что нет сейчас на земле никого более дорогого и желанного, чем этот долговязый усталый монах в выгоревшем и оборванном подряснике, подвязанном старым казацким поясом. Иннокентий прижал к себе хлопца.
- От людей только отшельники, старцы святые отделяются... да еще кому грехи тяжелые замолить надобно, а ты юнак чистый, пошто тебе уходить?
- Не ведаю, отчего так получилось... один я, - тихо ответил Стахор.
- Не один, - вздохнув, ласково поправил его Иннокентий. - Люди кругом, к ним пойдем. Понесем вместе слово и дело батьки твоего. Отзовутся нам многие. Этому верь!
Голубело над ними чистое небо, светило солнце, и пели им птицы.
* * *
Расходились по Украине, по земле Белой Руси, по литовским дорогам лирники, кобзари, слепцы певчие. Разносили печаль.
...Украина сумовала,
Своего гетьмана оплакала.
Буйни витри завивалы:
Деж вы нашого гетьмана сподивалы?
Тоди кречети налиталы:
Деж нашого гетьмана жалковалы?
Тоди орлы загомонилы:
Деж вы нашого гетьмана схоронилы?
Тоди жайворонки повилися:
Деж вы с нашим гетьманом простилися?
У глыбокой могиле...
Рассказывали, что не убили паны Наливайко, а увезли в город Варшаву, новообъявленную столицу польского королевства. Говорили, что вместе с ним увезли и батьку Савулу. Долго держали их в склепе старого замка, прикованных друг к другу цепями, по колено в воде. Ни одного дня и ни одной ночи спать не давали. Били в тимпаны над самым ухом.
Стали атаманы видеть сны, не закрывая глаз. Один другому рассказывать, что им виделось, а палачи смеялись над ними, предлагали милости у короля попросить. Не дождались того. Только однажды увидели побратимы оба один и тот же сон.
- Северин, - позвал Савула, - я сон бачу...
- И я бачу сон тяжкий, - ответил Наливайко.
- Будто дочку твою, Надейку... - шептал батька Савула, - каты к нам привели...
- И я гэто бачу, - простонал Северин, - то не сон, братэ мий, то правда...
Рванул цепи так, что лопнула кожа под ними и брызнула горячая казацкая кровь.
- Ироды! - закричал Наливайко. - Що вам дитя зробило? За що дивчину катуете!
- Проси милости у короля всенародно! - ответили палачи.
- Не проси, батько! - чуть слышно проговорила Надейка. - Як будэшь ты мовчки тэрпеть, я помру счастливийша.
- Доню моя ридная... - кровавыми слезами обливался Северин Наливайко. Савула прижал к своей груди его голову, не дал увидеть последней минуты Надейки.
Плакали люди, слушая рассказы об этом.
И еще говорили:
Не простили паны Наливайко и Савуле тех бугаев, что погромили князя Рожинского под Белой Церковью. Смастерили быка из меди. Чрево пустое, огромное, на двух человек, а в глотке такое устройство, что только застонет кто в чреве - бык заревет.
Поставили на площади в Варшаве и всем сеймом собрались любоваться на выдумку, что предложил ясновельможный пан Рожинский, сказав:
- Так описано у древнего итальянца, в терцинах великого Данте, как надобно грешников в аду жарить.
Впихнули в медное чрево двух побратимов и снаружи крепкие задвижки задвинули.
Разожгли под брюхом быка костер. Стала медь накаляться, а бык не ревет. Велели огня прибавить. Бык молчит.
Тогда разгневался Сигизмунд-король, приказал мастера, что делал в глотке устройство, самого зажарить в быке. Но мастер был невиновен. Устройство хорошее, да узнали о нем атаманы и не захотели панов своей смертью потешить. Умерли, крепко обнявшись, закусив плечи друг другу, чтобы не крикнуть, не застонать.
Рассказывали: взбесились паны от такого обмана. Наливайко, на поругание, мертвого посадили верхом на быка и на голову раскаленный обруч одели, а к руке заместо гетманской булавы метлу грязную привязали. Савулу, мертвого же, четвертовали и по четырем углам площади на кольях развесили.
Все им казалось одной смерти мало...
"...Глупцы! Вы человека убиваете, мыслите: с ним кончается все - и дела, и мечта его, и даже память о нем. Не знаете разве? Другой, отойдя, покидает себя в деяниях близких своих, мечта его в жизнь других обращается, слово в дело перетворяется, а святое дело хранит память о том, кто его породил, навеки.
И это - бессмертие!
В бессмертии дел отца своего жил сын Стахор.
Мне, убогому, довелось в малолетстве его в некие дни наставлять и грамоте обучать. В Могилеве, граде богопоставленном, не малый час вместе были. Там и почал я свои записи о ясном Стахоре. О деяниях добрых и грехах его.