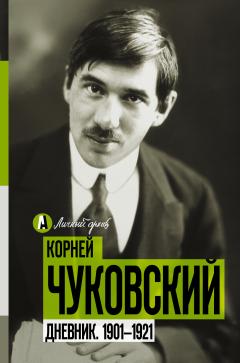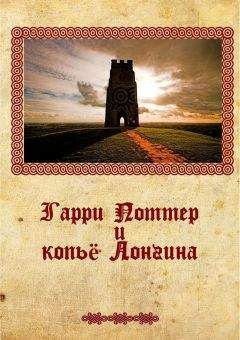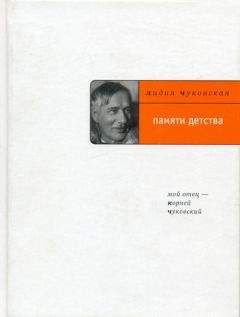[Вклеено письмо. – Е. Ч.]:
Милый Чук!
Вы меня огорчили: во-первых, Вы меня взволновали Вашим письмом, во-вторых, я, вспоминая о Ваших словах, делаюсь серьезным, а я привык чудить и шалить при Вашем имени, в-третьих, я должен писать Вам, а письма я ненавижу так же, как своих кредиторов.
Вы – славный, Чук, Вы – трижды славный, и как обидно, что Вы при этом так дьявольски талантливы. Хочешь любить Вас, а должен гордиться Вами. Это осложняет отношения. Ну, баста со всем этим.
Марье Борисовне сердечный поклон.
В меня прошу верить. Я, все же, лучше своей славы.
«Прохожий и Революция» прилагаю*. Не дадите ли ее для «Биржевых»?
Засим обнимаю. А. Руманов
2–3/VI–906.
У меня точно нет молодости. Что такое свобода, я знаю только в применении к шатанию по мостовой. Впечатлений своих я не люблю и не живу ими. Вот был в Гос. Думе – и даже лень записать это в дневник. Что у Аладьина чемберленовская орхидея – вот и все, что я запомнил и полюбил как впечатление. Познакомился за зиму с Ясинским, Розановым, Вячеславом Ивановым, Брюсовым, сблизился с Куприным, Дымовым, Ляцким, Чюминой, – а все-таки ничего записать не хочется.
Лучше впишу свое стихотворение, написанное 3 года назад и сегодня мною исправленное.
Средь чуждых стен приморского селенья
Израильских гробниц я видел скорбный ряд.
Спокойные – средь вечного смятенья, —
У неумолчных вод – они молчат.
Давно срослись могильные их плиты с землею кладбища,
И мнится – предо мной скрижали древние, что некогда разбиты
Пророком яростным у гор земли святой.
О, что за вихрь вражды бесчеловечной,
какие казни диких христиан
Забросили Агарь за этот бесконечный,
за беспощадный этот океан?
Грехом безверия не искушен лукаво:
«Смерть – это мир», – пророк скорбящий рек, —
«Бог дал нам Смерть, ему за это слава,
По Смерти жизнь не рушится вовек».
Но Смерть настигла их, и темной синагоги
Вовек не огласит торжественный псалом.
Божественный завет, томительный и строгий,
Вовек не прозвучит на языке святом.
Что было раз, того не будет боле,
Былым векам не возвратиться вспять.
Для новых страждущих открыто жизни поле,
А мертвецам вовек уже не встать.
Неутолимые души своей алканья
Они насытили обманом вечных грез,
И злаками томленья и изгнанья,
И горечью невыплаканных слез.
Анафемы озлобленные крики
Толкали их из края в новый край.
От всех дверей, скорбящий и великий, —
Отвергнут был презренный Мордохай.
Но сила им дана, и нашей властью бренной
Твердыни горестной никто не победит.
Развеяны, как пыль во всех углах вселенной,
Они тверды и крепки, как гранит.
Призывы их отцов над ними властны снова,
Им озаряя путь из мрака дней былых,
И все великие предания былого
В веках грядущего отражены для них.
Что было раз – того не будет боле.
Реке времен не возвратиться вспять.
Иным бойцам открыто жизни поле,
А мертвецам вовек уже не встать.
И еще одно, особенно мне дорогое:
В печке огонь веселился, где-то дверьми зашумели,
Задумчиво глядя, молчали вокруг зеркала.
Снега пышного песни за окошком неслышно звенели,
Ты куда-то на миг уходила и снова пришла.
За окном проходили ненужные люди.
В улице беспомощно за огоньки
И плакал я весело – о счастьи, о Боге, о чуде
У белой, холодной руки.
Однако нужно приниматься за Омулевского. Про него я хочу сказать, что он художник, придавленный тенденцией. Любят в нем тенденцию, но теперь, когда для таких подпольных тенденций время прошло, – нужно проверить Омулевского со стороны искусства*. И он сам был неправ, когда писал в стихах, – а что, я еще не знаю…
3 августа. За Омулевского получил в «Ниве» 100 р. – истратил. Работал с ног до головы. На пальце от писания мозоль выскочил. Перевел Джекобса, написал стихи, теперь нужно за Траубеля браться.
Сейчас у нас Дина (беременная) и Кармен. У Ольги Николаевны операция сошла хорошо.
Спасаюсь от самого себя работой.
Снова примусь за работу, – вот только запишу сегодняшнее стихотворение.
В небе ли светлая полночь таится,
В сердце ль моем?
Небо в бреду разметалось и бледными снами томится,
Сердце весенним обвито венком.
Тише молчания, тише лесной тишины
Эти томные стоны весны.
Все словно светлую тайну, заветную тайну узнали,
Словно приветная весть прозвучала для всех.
Девушки в сумраке окон грезят о светлой печали,
И всех осеняет какой-то бесстрастный, какой-то безрадостный грех.
Девушки белых ночей! Как вы тревожно красивы,
Чуда вы ждете, весеннего чуда, и чудо придет.
Меркнущих улиц влекут, и пьянят, и томятся извивы,
В небе и в сердце весенняя полночь, как белая чайка, плывет.
Не знаю числа. Из «Нивы» возвратили мой перевод, над которым я работал 10 дней, не разгибаясь, и за который надеялся получить 200–250 р. У меня от нервов разболелись зубы, и я всю ночь почти не спал. Теперь перевел из Браунинга вот что:
Там, где тает, улыбаясь, вечер синий…*
13 августа. Воспоминания Пассек*. Пасьянсы, люстры, парики, Плениры и Темиры, письмовник Курганова, фальконет, муромские сальные свечи, альбомы, куда вписывались такие строки:
Ручей два древа разделяет,
Судьба два сердца разлучает.
Девицы плакали над стихами.
Сентябрь, 5. Маша говорит: слава Богу, ты не болый и не госый.
Январь, 6. У нас Маруся. Вон ворочается на диване.
Июль, 16. («Русское Богатство» (Дионео), 1907, 8–9).
Самоцель помогает (и единственно делает возможным) существование идеологий. Ибо каждая эпоха идеи своего времени представляет себе незыблемыми для всех времен и народов – раз навсегда данными – это представление и делает из комплекса идей идеологию.
Мы на даче в Финляндии. За стеной Ценский. Дождь. Читаю Дионео о Томсоне. Андреев, Рославлев, чушки. В окна видны сосны.
Июль, 17. Самый несчастный изо всех проведенных мною дней. Утром получил письмо от ростовщика Саксаганского с оскорблениями, которых не заслужил. О Чехове Миролюбову не написал. В «Речи» нет моего фельетона о короткомыслии. Встретил Пильского, которого презираю. Был непонятно зачем у Леонида Андреева. С ним к Федоровым. Потом через болото ночью домой. Бессонница. Теперь один час ночи. Даже Чехов не радует меня. Что сказать о нем в журнале Миролюбова?
О Чехове говорят как о ненавистнике жизни, пессимисте, брюзге. Клевета. Самый мрачный из его рассказов гармоничен. Его мир изящен, закончен, женственно очарователен. «Гусев» законченнее всего, что писал Толстой. Чехов самый стройный, самый музыкальный изо всех. «Гусев» – ведь даже не верится, чтобы такой клочок бумаги мог вместить и т. д. Завтра пойду куплю или выпишу Томсона и Мережковского. Нужно посетить Аничкова: он заказывает мне статью о русской поэзии 80-х годов.
С послезавтрева решаю работать так: утром чтение до часу. С часу до обеда прогулки. После обеда работа до шести. Потом прогулка до 10 – и спать. Потом еще: нужно стараться видеть возможно меньше людей и читать возможно меньше разнообразных книг. Своими последними статьями в «Речи» я более доволен: о Чехове, о короткомыслии, о Каменском*. Дельные статьи. Но предыдущие были плохи, и нужно стараться их загладить. Сегодня я написал две рецензии о книге Шестова и о «Белых ночах»*.
22 июля. Вчера Коленька долго смотрел из моего окна на сосну и сказал: «Шишки на дерево полезли как-то». Он привык видеть их на земле. Сегодня воскресение. Вчера напечатан мой фельетон в «Речи» – «О короткомыслии». Словно не мой, а чужой чей-то. Программу свою начинаю понемногу выполнять.
29 августа. – Жила-была Зиночка, и ее съела корова. – Корова не ест девочек, а только траву. – Не траву, а сено. – Сено – это трава. – Нет, трава синяя, а сено белое.
Вот какой прерафаэлит: плита варится. Много муравей лазают и камурашек.
Бабочки – трусишки, они большие, только трусишки. Они улетают: они думают, что люди – волк. Они другого не боятся. Шишки на дерево полезли как-то.
– Вот, папа, человечек. – Фу, нет, какой же это человек? – Ну, тогда я палку сделаю.
9 сентября. Сейчас у меня был И. Е. Репин. Он очень вежлив, борода седоватая, и, чего не ожидал по портретам, борода переходит в усы. Прост. Чуть пришел, взобрался на диван, с ногами, взял портрет Брюсова работы Врубеля*. – Хорошо, хорошо, так это и есть Брюсов? – Сомова портрет Иванова. – Хорошо, хорошо, так это и есть Иванов? – Про Бакстов портрет Белого сказал: старательно. Смотрел гравюры Байроновых портретов: вот пошлость, шаблонно. Карикатуру Любимова на меня одобрил. Сел, и мы заговорили про Россетти (академичен), про Леонида Андреева: – «Красный смех» – это все безумие современной войны. Губернатор – это Толстой, Гоголь и Андреев сразу. – Про С. Маковского: – Стихи хорошие, а критика – с чужого голоса, слова неосязательны. – Я ему показал его работы Алексея Толстого. Он говорит: – Это после смерти поэта. Под впечатлением. Какой-то негодяй заретушевал – ужасно! – Потом внизу пили чай; груши, сливы, Тановы дети. Колька пищал. Я говорил о Уотсе: дожил до 90 лет. Видимо обрадовался. Я сказал, что Уотс работал до 90. Забыл пальто наверху – взбежал наверх, – чтобы на него не смотрели, как на старика. Я проводил его до калитки – ушел, старик, сгорбившись, в крылатке.