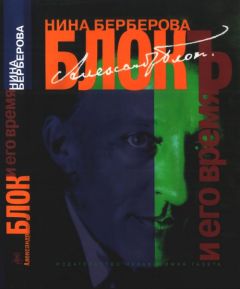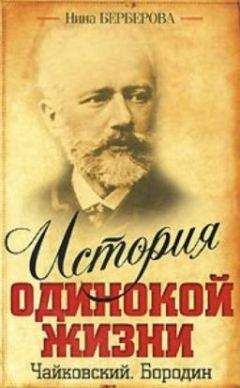Ознакомительная версия.
Меня слегка покоробило от двух литературных ассоциаций, нахлобученных одна на другую. Мне показалось на одну секунду, что он при этом посмотрел на меня, но я не обратила внимания. И только после того, как он, раскланявшись, вышел из класса, все повернулись ко мне и хором объявили мне, что все это было обо мне, что Нутес расчувствовался при расставании со мной. Но в те дни столько странного, нового, чудесного происходило вокруг меня и со мной, что тема "Нутес как утес" благодаря дурацкой рифме приняла какой-то юмористический оттенок. И больше я Соколова никогда не видела. Но это хождение к нему открыло мне чужую жизнь, и мне стало нравиться ходить к людям и смотреть, что и кто "лежит у них за ширмами". И я полюбила смотреть в чужие окна, особенно вечерами, ничуть не желая разделить чью-то чужую жизнь, но только желая увидеть эту жизнь, узнать, понять ее и погадать о ней. Я словно рассматривала какие-то иллюстрации в толстой книге, не всегда интересуясь ее текстом. И эти картинки жили со мной потом, перед сном, в кровати, они вдруг возникали в памяти (при совершенно неуловимой ассоциации). Вот семейство сидит за вечерним чаепитием. Вот девочка, похожая на меня, разбирает сонатину Клементи. Вот мужчина старается стащить с женщины длинное, узкое платье, вот собака спит, подняв одно ухо и опустив другое, а между задними ногами у нее примостился котенок в ошейнике... Много позже это смотрение в чужие окна, любопытство к тому, что у кого "лежит за ширмами", перешло и в "Мыс Бурь", и в рассказ мой "Большой город".
Таким было прощание с учителем русской литературы, но совсем иным было прощание с Усковым. Нас было человек десять, и мы решили отпраздновать окончание гимназии с двумя учителями, - хоть Усков и не преподавал в старших классах, но он был популярен, и популярен был учитель алгебры, Семен Григорьевич Натансон, позже женившийся на моей однокласснице. Он был молод, хорош собой и талантлив, и в последнем классе и алгебра, и тригонометрия уже не были для многих из нас закрытой книгой. Мы взяли две ложи в Александринку на какую-то пьесу Сумбатова-Южина, очень скверную, но всем нам было не до пьесы, а в воскресенье, в самом конце мая, мы поехали в Павловск на целый день - там нашелся какой-то пустой дом (или, вернее, дача), в котором мы и приготовили обед на двенадцать человек, и потом гуляли в парке, сидели в саду, около дома, на большой террасе, и вернулись в город домой поздно. Розанов, кажется, в "Уединенном", говорит, что какое-то одно воспоминание молодости может иногда удержать человека от самоубийства, вывести его из безнадежности и отчаяния. Этот день в Павловске - такое воспоминание.
Усков проводил меня домой, а потом пошел провожать Наташу, пешком через весь город, белой ночью. "А ведь у нас было что-то вроде клуба трех, - сказал он напоследок. - Спасибо вам". Я тоже хотела сказать "спасибо", но от волнения и грусти едва могла выговорить это слово. Нет, я не была влюблена в него, но если бы, - думала я потом, в своей комнате, ночью, если бы он позволил мне каждый день стирать пыль с его книг и сидеть в углу молча, когда он пишет или читает, я бы сейчас же ушла из дому и была бы так счастлива... Эта роль бедного Лазаря мне ужасно нравилась в те годы. Я как-то очень вовремя выдумала себе ее.
Весна. Павловск. Счастье, как ореол, стоит над нашими лицами, от полноты жизни и ожидания собственной судьбы блестят глаза. Над огромной чужой дачей, в уже запущенном, но еще не отнятом саду поют птицы, цветет сирень, а в кухне Эся нарезает селедку своими красивыми, белыми, большими руками, сама красивая и большая, с подкрашенным ртом, пахнущая сладкой пудрой, которую она носит при себе в изящной пудренице. Она немножко бывает нахальна, потому что знает себе цену, но мы ее любим. Она командует, чтобы кто-нибудь нарезал лук, и кроткая Поля берется за нож, пока Тамара разогревает пирог, привезенный из дому. Я стараюсь изо всех сил найти себе дело, потому что кто не работает, тот не ест, но Наташа брезгливо ни до чего не дотрагивается и уходит к нашим двум гостям на террасу и их там занимает. "Об умном разговаривают", - так определяет Эся их времяпрепровождение. Потом откупоривается белое вино, я выпиваю два стакана залпом и вдруг чувствую, что не знаю, куда девать собственные руки, что у меня широкие ноги, что у меня слишком большой рот, недостаточно тонкая талия и, может быть, не совсем чистый нос. Но уже после третьего стакана все эти сомнения проходят, и хоть я и знаю, что не красавица, но я чувствую всю свою ладность: и крепко подтянутые чулки, и тугой лифчик, и аккуратно заколотые на затылке узлом волосы, и чистые ногти, и высокие каблуки. Наташа читает стихи, я читаю стихи, Эся привезла гитару, Тамара поет высоким, высочайшим сопрано, каким-то приятным птичьим фальцетом, Семен Григорьевич ей подпевает, они поют дуэт, они сидят друг против друга и смотрят друг другу в глаза, а Эся, накинув скатерть на одно плечо, изображает испанца и аккомпанирует, теребя и щипля струны длинными женственными пальцами.
И потом в поезде начинается меланхолия счастья, это особое чувство в молодости, какое бывает, когда кончается счастливый день. И вот преувеличиваешь все: белая ночь светлее, чем она есть, пение печальнее, чем оно было, человек, сидящий напротив, моложе и красивее, чем он на самом деле есть, и я сама как будто вижу только его одного - и никого другого, а смотрит он на Наташу, на Люсю... и не помнит, уже не помнит меня! Берешь минутный реванш за все отвергнутые либестраумы, и стук колес растравляет тебе сердце, а свист паровоза уносит все, что было, в небытие.
Уносит, но не все. То, что остается, я берегу, я дрожу над моим сокровищем, я, словно нищий на паперти, хожу с протянутой рукой и жду, не упадет ли что-нибудь в мою ладонь, а когда падает - крепко держу. Поток стихов к этому времени остановился. Я стала строже к себе, и не всякое тра-та - тра-та, не всякое милый-унылый записывала. Я смиренно собирала крохи: разговор с Нутесом, долгие импровизации Наташи, Достоевский, Ницше, Шестов, кем-то брошенное слово (и мною подобранное), и копила их, и хранила их, и думала, и думала, и думала над ними. Если мне приоткрывалась новая даль - в тот год гоголевские места между Диканькой и Миргородом, и позже Москва, полная для меня новых и безотрадных впечатлений, - если я смотрела в эту даль, то как путник в пустыне в ожидании, не капнет ли на него тот дождь, от которого оживет и он сам, и вся пустыня вокруг. И от каждого человека я ждала чего-то. И от каждого дня я надеялась получить что-то. И были дни, которые приходили и уходили в российском сквозняке тех месяцев, и другие, которые словно лепили мою душу, и еще третьи, которые, как памятники, вдвигались навеки в сознание. Это были особые дни (всего, может быть, четыре или пять в тот год), которые стоят до сих пор, как бронзовые фигуры, в памяти, и были иные, которые запомнились меньше, чем запомнилось то, что они со мной сделали, и еще третьи - важные потому, что осветили меня, подняли меня, прибавили ко мне, надстроили меня.
Ознакомительная версия.