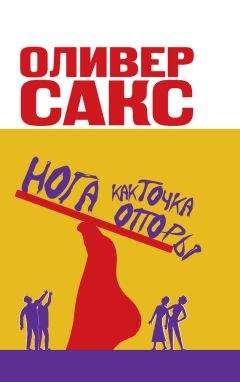О чем я думал, так это о замечательной главе в книге А.Р. Лурии «Потерянный и возвращенный мир», озаглавленной «День решающего открытия». По сути, она предназначена для пациента и посвящена возврату «музыки»:
«Сначала с ним [письмом] было так же трудно, как и с чтением. Быть может, еще труднее. Он [пациент] разучился держать карандаш, он не знал, каким концом его брать, как им пользоваться. Он забыл, какие движения надо сделать, чтобы написать букву. Он стал совсем беспомощным... А потом наступил день, который перевернул все. Это был день великого открытия, которое он сделал. Все было очень просто. Сначала он пытался писать, вспоминал образ каждой буквы, пытался найти каждое движение, нужное, чтобы его написать... Разве взрослый человек пишет так же, как ребенок? Разве ему нужно задумываться над каждым образом буквы, искать каждого движения, нужного, чтобы ее написать?! Мы давно уже пишем автоматически, у нас давно сложились серии привычных движений письма, целые «кинетические мелодии»... Теперь ему не нужно было мучительно вспоминать зрительный образ буквы, мучительно искать то движение, которое нужно сделать, чтобы провести линию. Он просто писал, писал сразу, не думая»[22].
Автоматически! Да, автоматически — это и есть ответ. Что-то должно получиться автоматически — или не получится ничего.
Каждая болезнь — музыкальная тема, каждое излечение — музыкальное разрешение.
Новалис
Я встал — или, точнее, «меня встали», подняли на ноги двое крепких физиотерапевтов; я, как мог, помогал им, опираясь на два прочных костыля, которые мне дали. Мне процесс показался странным и пугающим. Когда я смотрел прямо перед собой, я понятия не имел, где находится моя левая нога; я вообще не имел определенного ощущения ее существования. Мне нужно было посмотреть вниз — все решало зрение. И когда я таки глянул вниз, то левая нога в это мгновение воспринималась только как объект рядом с правой ногой. Казалось, она никоим образом мне не принадлежит. Мне и в голову не приходило опереться на нее, вообще как-то ее использовать. Так что я стоял, или «меня стояли», поддерживаемый не ногами, а костылями и физиотерапевтами, в странной, довольно пугающей тишине, той напряженной тишине, которая возникает, когда должно случиться что-то значительное.
В эту тишину, в это оцепенение ворвались решительные голоса:
— Давайте, доктор Сакс! Не можете же вы стоять как цапля на одной ноге! Нужно пользоваться и другой, опираться на нее.
У меня возник соблазн спросить: «Какой другой?» Как мог я стоять, не говоря уже о том, чтобы двигать этот чудовищный ком желе, это ничто, вяло свисающее с моего бедра? И даже если, укрепленный этим меловым панцирем, этот нелепый довесок мог бы меня поддерживать, как мог бы я идти, если я забыл, как ходить?
— Давайте же, доктор Сакс! — торопили меня физиотерапевты. — Нужно начинать.
Начинать! Как я мог бы? И все же я должен. Именно этот момент и есть тот странный момент, с которого должно начаться начало.
Я не мог заставить себя опереться непосредственно на левую ногу — потому что это было просто немыслимо, не говоря уже о том, что страшно. Что я мог сделать — и сделал — это поднять правую ногу, после чего так называемая левая нога должна была послужить опорой или подогнуться.
Неожиданно, без всякого предупреждения, совершенно этого не предчувствуя, я обнаружил, что погрузился в головокружительное видение. Пол был на расстоянии многих миль от меня, потом оказался всего в нескольких дюймах, палата внезапно накренилась и повернулась вокруг своей оси. Я испытал шок, меня охватил острый ужас. Я почувствовал, что падаю, и закричал физиотерапевтам:
— Держите меня! Вы должны меня поддерживать — я совершенно беспомощен!
— Сохраняйте равновесие, — ответили мне.
— Не опускайте глаза.
Но я чувствовал бесконечную неуверенность и был вынужден смотреть вниз. Вот тогда-то я и обнаружил источник непорядка. Им была моя нога — точнее, тот предмет, тот безликий гипсовый цилиндр, служивший мне ногой, та белая абстракция. Теперь цилиндр имел в длину то тысячу футов, то два миллиметра: он был то толстым, то тонким, он кренился то в одну сторону, то в другую. Он постоянно менял размер и форму, положение и угол наклона; перемены происходили четыре-пять раз в секунду. Степень трансформации была огромной — между последовательными «структурами» различие могло быть тысячекратным.
Пока перемены были такими чудовищными по величине и неожиданности, и речи не могло идти о том, чтобы я мог что-то сделать без поддержки. Было совершенно невозможно двигаться при подобной нестабильности образа, каждый параметр которого непредсказуемо менялся на несколько порядков. Через минуту или две (другими словами, после нескольких сотен трансформаций) перемены сделались менее своенравными и непредсказуемыми, хотя и продолжались с такой же скоростью, как раньше: трансформации гипсового цилиндра, хоть и оставались чудовищными, сделались менее резкими и стали затухать, приблизившись к приемлемым границам.
При такой ситуации я решил начать двигаться. Кроме того, меня торопили, даже физически направляли и подталкивали двое физиотерапевтов; они улавливали мое беспокойство и сочувствовали мне, но тем не менее (как я предположил и что впоследствии подтвердилось) не имели ни малейшего представления о тех ощущениях, которые в тот момент я испытывал и с которыми боролся. Можно было, пусть с трудом, представить себе (как я теперь подумал), что возможно научиться управлять такой ногой, хотя это походило бы на управление роботом чрезвычайно ненадежной конструкции, постоянно меняющейся невероятным и непредсказуемым образом.
Разве можно с успехом сделать хоть один шаг в мире — перцептивном мире, — постоянно меняющем свою форму и размер?
Когда началось это смятение чувств, у меня возникло впечатление взрыва, абсолютной беспорядочности и хаоса, чего-то совершенно случайного и анархического. Но что могло вызвать такой взрыв в моем уме? Могло ли это быть просто сенсорным взрывом, порожденным состоянием ноги, которой пришлось в первый раз служить опорой, стоять, функционировать? Несомненно, ощущения были слишком сложны и скорее напоминали гипотезы, совокупность тех элементарных априорных догадок, без которых не было бы возможным восприятие или конструирование мира. Хаос царил не в восприятии как таковом, а в пространстве, в эталонах, которые предшествуют восприятию. Я чувствовал, что наблюдаю — в тот момент, когда подчиняюсь им, — само возникновение эталонов, измерений мира.