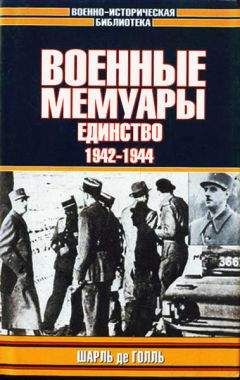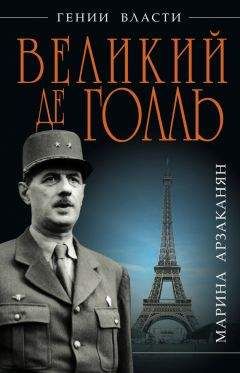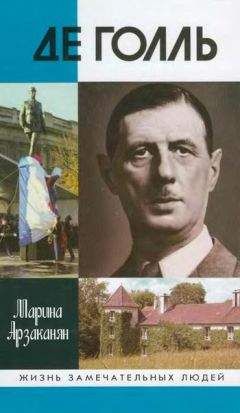Надо сказать, что вообще маршал Петен считал войну проигранной. Этот старый солдат, надевший военный мундир вскоре, после окончания войны 1870–1871, склонен был и нынешнюю войну рассматривать как очередной франко-германский конфликт. Потерпев поражение в первой схватке с немцами, мы одержали победу над ними во второй, то есть в войне 1914–1918. Нам, конечно, помогли союзники, но они сыграли второстепенную роль. Теперь мы терпим поражение в третьей войне. Это очень тяжело, но вполне закономерно. После Седана и падения Парижа, по мнению Петена, следовало кончать войну, заключать перемирие и в случае необходимости расправиться с Коммуной, как в свое время в подобных же обстоятельствах расправился с нею Тьер[98]. Для старого маршала такие факторы, как мировой характер войны, возможность использования заморских территорий, идеологические последствия победы Гитлера, не имели никакого значения. Такие моменты он не имел обыкновения принимать в расчет.
И все-таки я убежден, что в другое время маршал Петен не согласился бы взять на себя роль главы государства в условиях поражения Франции. Я уверен в том, что, оставаясь самим собою, он возобновил бы борьбу, как только убедился бы, что он заблуждался, что победа возможна, что Франция способна внести в нее свой вклад. Но, увы! годы подточили его. На склоне лет он уже легко поддавался влиянию людей, которые, ловко пользуясь усталостью маршала, прикрывали свои махинации его громким именем. Старость — это крушение. И раз уж нам суждено было испить чашу до дна, старость маршала Петена должна была символизировать крушение Франции. Именно об этом я думал ночью по дороге в Бретань.
В то же время во мне крепла решимость продолжать войну во что бы то ни стало. Прибыв в Ренн утром 15 июня, я встретился там с генералом Рене Альтмайером[99], который командовал различными соединениями, сражавшимися к западу от реки Майенн, с командующим военным округом генералом Гитри[100] и префектом департамента Иль и Вилен. Все трое проявляли максимум добросовестности, каждый на своем участке. Я постарался согласовать их усилия и их возможности в интересах обороны данного района. Затем я добрался до Бреста, обогнав по пути английские эшелоны, которые двигались к Бресту, откуда должны были эвакуироваться морем. В морской префектуре вместе с адмиралом Тробом и командующим западным военно-морским районом де Лабордом я изучал, какими возможностями располагает военно-морской флот и в чем он нуждается для погрузки войск в портах Бретани. Во вторую половину дня я уже находился на борту эскадренного миноносца «Милан», который должен был доставить меня в Плимут. Туда же направлялась группа химиков во главе с генералом Лемуаном, командированная министром вооружения Раулем Дотри[101] в Англию, для того чтобы доставить в безопасное место «тяжелую воду». Когда мы покидали брестский рейд, мне салютовал линкор «Ришелье», уже готовый взять курс на Дакар. Из Плимута я выехал в Лондон, куда прибыл 16 июня на рассвете.
Уже через несколько минут в номер гостиницы «Гайд-парк», где я с дороги приводил себя в порядок, явились Корбэн и Монне. Посол известил меня, что встречи с различными английскими деятелями, с которыми мне предстояло вести переговоры по вопросу транспортировки войск, уже назначены на утро. Кроме того, было условлено, что если Франция не обратится к Германии с просьбой о перемирии, то на следующий день Поль Рейно и Черчилль встретятся утром в Конкарно, чтобы совместно дать указания о погрузке войск на суда. Затем мои собеседники перешли к другому вопросу.
«Нам известно, — говорили они, — что пораженческие настроения в Бордо растут очень быстро. Пока Вы были в пути, французское правительство подтвердило телеграммой просьбу, с которой Поль Рейно устно обратился к Черчиллю 13 июня, о том, чтобы Франция была освобождена от обязательств, налагаемых на нее соглашением от 28 марта. Каков будет ответ англичан, который ожидается сегодня утром, мы еще не знаем. Однако мы думаем, что они не станут возражать при условии, если будут даны гарантии, касающиеся французского военно-морского флота. Таким образом, наступают последние минуты. Тем более, что днем в Бордо должно состояться заседание Совета министров, а заседание это, по всей видимости, будет решающим».
«Нам показалось, — продолжали Корбэн и Монне, — что только какое-нибудь неожиданное событие, резко меняющее обстановку, было бы способно изменить общее настроение и, во всяком случае, укрепить намерение Поля Рейно отправиться в Алжир. Вот почему вместе с сэром Робертом Ванситтартом[102], постоянным заместителем министра иностранных дел Великобритании, мы подготовили проект, который, по-видимому, может произвести надлежащий эффект. Речь идет о слиянии Франции и Англии, с предложением, о котором английское правительство должно торжественно обратиться к правительству Бордо. В соответствии с этим проектом, оба государства решают создать единое правительство, совместно использовать свои возможности, в равной степени идти на жертвы, короче говоря, полностью связать свои судьбы. Не исключено, что такое предложение, сделанное в данной обстановке, склонит наших министров к попытке усилить сопротивление или заставит, по крайней мере, повременить с капитуляцией. Однако нужно еще, чтобы наш проект получил одобрение английского правительства. Только Вы можете добиться этого от Черчилля. Условлено уже, что вскоре Вы с ним встретитесь на завтраке. Таким образом, имеется превосходная возможность говорить с ним на эту тему, если, конечно, Вы сами одобряете подобную идею».
Меня ознакомили с проектом заявления. Сразу же я подумал о том, что сама грандиозность задуманного плана исключала возможность немедленного его осуществления. Бросалось в глаза то обстоятельство, что если и признать целесообразность слияния Англии и Франции, то невозможно путем одного лишь обмена нотами объединить в одно целое, пусть даже в принципе, обе эти страны с их учреждениями, интересами и владениями. Даже те пункты проекта, которые могли быть практически решены, как, например, вопрос о совместных военных усилиях, потребовали бы длительных переговоров. Но это предложение английского правительства правительству Франции явилось бы выражением солидарности и само по себе могло иметь вполне реальное значение. А главное, я, так же, как Корбэн и Монне, считал, что в том критическом положении, в каком находился Поль Рейно, этот проект мог явиться для него моральной поддержкой и аргументом против министров его кабинета, настаивавших на прекращении борьбы. Вот почему я согласился убедить Черчилля поддержать данный проект.