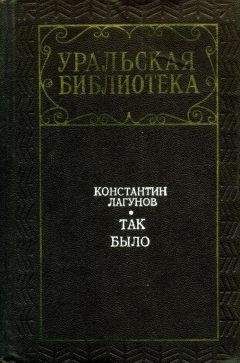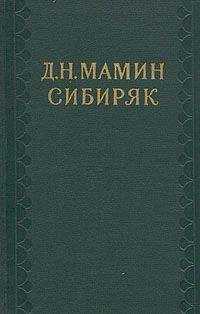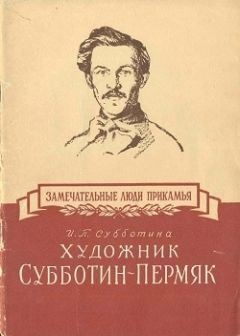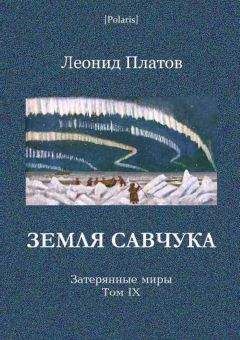— Успокойся, — Лещенко протянул руку, коснулся плеча юноши. Серое лицо военкома порозовело, глаза прищурились в улыбке. — Ишь ты, какой торопыга. «Я сам с усам». Молодец. Садись. Садись, тебе говорю. Вот так. Сейчас я напишу бумагу — поедешь в Ишим. Тут рядом. Только без шуму, а то наш главный лекарь знаешь как разобидится…
— Да я прямо сейчас, на товарняке.
— Не горит. Поедешь утром.
Лещенко склонился над чистым бланком с военкоматским штампом, прижал палец к губам, потом единым духом, не отрывая пера, написал направление. Поставил на свою подпись печать. Подавая бумагу, сказал:
— Двигай, артиллерист. Желаю удачи. Заключение привезешь с собой.
Вадим сбежал с крыльца военкомата. Впервые после загадочного исчезновения матери он был по-настоящему весел. Радость распирала грудь. Он вышагивал, громко напевая:
Артиллеристы, точней прицел,
Наводчик зорок, разведчик смел…
Опомнился у калитки своего дома. Оборвал песню. Долго стоял, навалившись на жердь забора. Глубоко вздохнув, толкнул калитку.
В доме тишина. Но едва он засветил в кухне лампу и, придвинув кастрюлю с холодной картошкой, потянулся рукой за солонкой, послышались тяжелые шаги. Вошел отец. Вадим вскочил.
— Ты чего поднялся? Сиди, ешь. Я тоже посижу, покурю.
Сын нехотя сел, но к еде не притронулся. А отец, достав из кармана пижамы портсигар, закурил. Несколько раз пыхнул папироской, спокойно спросил:
— Ну как дела?
— Ничего. — Сын неопределенно пожал плечами.
— Комиссия была?
— Была… — Вадим не сдержался и посыпал: — Чепуха, а не комиссия. Наш райздрав с похмелья отыскал у меня порок сердца. Ты же знаешь, какое у меня сердце, а он — порок. Доверяют таким. Ему бы коновалом быть, а не райздравом.
— Они дали тебе документ о снятии с военного учета?
— Нет. Я сам не взял. Я… — Вадим снова вскочил.
— Что же ты?
— Ну, я… я пошел к военкому и взял направление в Ишим. На перекомиссию. Завтра поеду. Я уверен…
— Что, что?! — Шамов резко поднялся. — Ты даже не счел нужным посоветоваться со мной? Решается твоя судьба, а ты…
— Я… я был уверен, что ты поддержишь меня.
— Нет. — Отец с ожесточением затянулся, швырнул окурок в таз. — Нет, я не одобряю, больше того, я осуждаю твой поступок. Ты незаслуженно оскорбил прекрасного врача, взял под сомнение его заключение. Заруби себе на носу: ты никуда не поедешь. Дай сюда направление! Я сам верну его Лещенко.
Вадим не пошевелился. Отец и сын долго молча стояли друг против друга. Богдан Данилович был спокоен и холоден. Вадим походил на взъерошенного, готового к бою молодого петушка.
— Дай сюда направление и марш спать! Больше никаких лыж и боксов. Раз врачи говорят, что ты болен, надо лечиться.
— Ты не хочешь, чтобы я пошел в армию? Но ведь ты сам, сам говорил мне тогда: «Готовь себя к фронту морально и физически». Помнишь? А как до дела дошло, ты… ты… Пусть другие воюют, а мне папа выхлопочет белый билет. Так? Да? Если я хочу быть настоящим человеком?
Богдан Данилович даже слегка попятился. Но он был старый, опытный боец. Мгновение — и его лицо преобразилось, на нем появилось выражение горькой, незаслуженной обиды.
— Ты говоришь гадости. Тебе, видно, доставляет удовольствие оскорблять отца. — Глубоко вздохнул, будто всхлипнул. Привычным движением заложил руки за спину. — Я коммунист, партийный работник, и для меня всего дороже интересы Родины. Ради победы над фашизмом я готов пожертвовать всем, даже… даже тобой. — Снова тяжелый вздох. — Но есть объективные причины. Болезнь, например. Думаешь, я сидел бы здесь, ездил по колхозам, писал докладные? Чепуха. Я с радостью ушел бы на фронт. Сейчас. Сию минуту. И кем угодно. Лишь бы туда, на передний край, где решаются судьбы страны. — Выдержал небольшую паузу, безнадежно развел руками. — Увы. Фронту нужны здоровые. Больной там — лишняя обуза. И я смирился. Но в меру сил своих тоже кую победу. Будешь работать и ты. Садись на трактор, становись к станку. Я не хочу делать из тебя канцеляриста. — Богдан Данилович перевел дыхание. Сел, показав сыну на стул. — Что касается этого заключения, думаю, Роман Спиридонович прав. В детстве ты был хилым. Врачи находили врожденный порок сердца и пророчили тебе недолгую жизнь. Мы сделали все, чтобы поправить твое здоровье… — Он осекся: испугался, что сейчас Вадим подумает о матери. — В общем, удалось загнать болезнь вглубь. Загнать, но не выгнать. Потому-то Роман Спиридонович и обнаружил твой порок. В суровых условиях фронта ты сразу сдашь и станешь обузой для армии. Работая же в тылу, будешь ее достойным помощником. А ты, не разобравшись, оскорбил человека, бросил тень подозрения на его доброе имя. Эх ты, торопыга. — Он ласково погладил плечо сына.
Вадим опустил голову и принялся крутить пуговку на обшлаге рукава. Богдан Данилович решил, что сын смирился.
— Ладно, — примирительно сказал он. — Объяснились, и хорошо. Давай сюда направление. Тебе неудобно его возвращать. Я сам поговорю с военкомом.
— Не дам. — Вадим исподлобья глянул на отца. — Съезжу в Ишим, тогда будет видно. Если Роман Спиридонович окажется прав, извинюсь перед ним. А никакой сделки мне не надо.
— Хватит болтать! — закричал Шамов-старший. — Я не намерен выслушивать этот бред. Сейчас же положи на стол эту бумажку!
— Эх ты. — На глазах Вадима закипели злые слезы. — А еще коммунист. Сам подальше от фронта уехал и меня хочешь? Твой Роман Спиридонович — продажный холуй. Совестью торгует. И ты с ним…
— Молчать! — Богдан Данилович пинком опрокинул стул. Сжав кулаки, угрожающе двинулся на сына.
Вадим вцепился в уголок стола. Сказал звенящим шепотом, отделяя слово от слова:
— Если ударишь — уйду. Как мама.
Прошел мимо отца. Упал на кровать, ткнулся лицом в подушку.
Унимая взбудораженные нервы, Богдан Данилович долго ходил по кухне. Потом, погасив лампу, ушел в свою комнату, на цыпочках приблизился к постели, тихо окликнул:
— Спишь, Валя?
Она не отозвалась. «Слава богу», — облегченно вздохнул Шамов.
4.
За день Валя так устала, что едва коснулась головой подушки — сразу заснула. Не слышала даже, как Богдан Данилович ложился. Но когда он поднялся и пошел к Вадиму на кухню, проснулась. Она слышала весь разговор отца с сыном.
Валя с первого взгляда невзлюбила молчаливого парня с пепельными мягкими волосами и светло-голубыми, прозрачными глазами. Эти глаза всегда смотрели на нее с презрением и ненавистью. Она пугалась их взгляда, боялась оказаться с ним наедине. Про себя она окрестила Вадима «змеенышем». Теперь Валя убедилась, что дала пасынку верное прозвище. Как он с отцом разговаривает! Такого отца поискать: умный, добрый, заботливый. А этот щенок только и норовит укусить его побольнее. Другой отец за такие слова три шкуры спустил бы, а Богдан — интеллигент, он и прикрикнуть-то как следует не может. Если бы она не третий день была хозяйкой в этом доме, если бы Вадим не был ей почти ровесником, Валя не промолчала бы сейчас. «Ударишь — уйду, как мама». Никуда бы не ушел… А почему он так сказал: «Уйду, как мама»? Валя знала, что Богдан Данилович приехал сюда с женой и они два месяца жили вместе. Соседка говорила, что Шамовы жили дружно. Почему и куда тогда она уехала? Богдан Данилович уверял, что они разошлись еще до войны и только формально поддерживали отношения. Так он и Рыбакову объяснил. А этот — «уйду, как мама». Не мог же Богдан сказать неправду. Зачем ему лгать? Вале все равно — кто и куда ушел. Она любит его. Любит. И ради него готова на все. Рядом с ним, вместе с ним ей ничто не страшно. Все по силам, все по плечу. Как они заживут после войны! Главное — они любят друг друга. Теперь только захоти — и достигнешь всего, чего ни пожелаешь… А этот поганец все время норовит подлить им горечи. Хватит с нее горького. Хватит тревог и слез. Она сыта всем этим, сыта по горло…