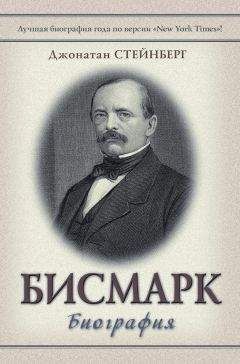Из многочисленных бесед с королем, которые последовали за этой первой беседой, мне запомнились следующие его слова: «Я хочу повести борьбу против тенденций Национального собрания, но как бы я ни был убежден в своих правах, при нынешнем положении вещей, у меня нет уверенности, что другие, а также в конечном счете и широкие массы, разделяют это убеждение. Чтобы я мог быть вполне уверен в этом, [Национальное] собрание должно в еще большей мере сойти с почвы права, и притом в таких вопросах, где мое право защищаться силой было бы вполне ясно не только мне, но и всем вообще».
Мне так и не удалось убедить короля в том, что его сомнения относительно [реальности] своей власти неосновательны и что поэтому все сводится к тому — верит ли он в свое право, когда хочет обороняться против недопустимых посягательств собрания. Моя правота была вскоре подтверждена тем, что перед лицом больших и малых восстаний любое военное распоряжение проводилось беспрекословно и ревностно, и притом даже в таких условиях, когда соблюдение воинской дисциплины было с самого начала связано с подавлением уже начавшегося вооруженного сопротивления. Между тем роспуск собрания, коль скоро деятельность его была бы признана опасной для государства, не возбудил бы в рядах войск вопроса об обязательном выполнении военного приказа. Точно так же вступление большого количества войск в Берлин после штурма цейхгауза[115] и подобных событий было бы понято не только солдатами, но и большинством населения (если не говорить о меньшинстве, игравшем руководящую роль) как заслуживающее признательности использование несомненного королевского права; и если бы даже гражданская гвардия захотела оказать сопротивление, то она только увеличила бы в войсках справедливый воинственный гнев. Мне трудно допустить мысль, чтобы летом король мог сомневаться в том, имеет ли он достаточно материальных сил, чтобы положить конец революции в Берлине. Скорее я могу предположить, что у него были задние мысли: [с одной стороны], — нельзя ли будет при каком-либо стечении обстоятельств использовать, прямо или косвенно, Берлинское собрание и примирение с ним и его правовой основой, — будь то в комбинации с Франкфуртским парламентом[116] или против него, будь то для оказания давления в германском вопросе в других направлениях; [а с другой стороны], —не скомпрометирует ли формальный разрыв с прусским народным представительством перспективы германского объединения. Шествие под немецкими знаменами я, конечно, не приписываю таким наклонностям короля: он был тогда физически и душевно так потрясен, что не мог оказать достаточного сопротивления тем требованиям, которые ему настойчиво предъявлялись.
Бывая в Сан-Суси, я познакомился там с людьми, пользовавшимися доверием короля также и в политических вопросах, и по временам встречался с ними в кабинете. Из них назову в особенности генералов Леопольда фон Герлаха и фон Рауха, позднее Нибура — советника кабинета.
Раух был практичней; Герлах страдал тем, что склонен был при решении актуальных вопросов увлекаться остроумными обобщениями. Он был благородной натурой, [человеком] широкого размаха, но не таким фанатиком, как его брат, президент Людвиг фон-Герлах; в обыденной жизни он был скромен и беспомощен, как дитя, но политик он был смелый, с широким кругозором, ему мешала только его флегматичность. Я помню, как мне пришлось однажды в присутствии обоих братьев, президента и генерала, следующим образом высказаться по поводу сделанного им упрека в непрактичности: «Если бы мы втроем увидели сейчас в окно, что на улице произошел несчастный случай, то господин президент пустился бы в связи с этим в остроумные рассуждения о недостатке в нас веры и о несовершенстве наших учреждений; генерал сказал бы в точности, что следовало сделать, чтобы помочь беде, но не двинулся бы с места; и только я вышел бы на улицу или позвал бы людей на помощь». Таков был генерал, влиятельнейший политический деятель среди камарильи[117] Фридриха-Вильгельма IV: человек благородного и самоотверженного характера, верный слуга короля, но ни морально, ни, может быть, даже и физически — из-за своей тучности — неспособный быстро осуществлять свои правильные идеи. В те дни, когда король был несправедлив или немилостив к нему, в доме генерала на вечерней молитве можно было, вероятно, слышать старую церковную песнь:
Князьям не доверяйся, друг, —
Изменчивы они:
Провозгласят «Осанна» вдруг,
На завтра же—«Распни!»
Но его преданность королю нисколько не умалялась этим христианским излиянием недовольства. Он душой и телом стоял за короля, даже в тех случаях, когда тот, по его мнению, заблуждался. В конце концов он почти добровольно поплатился за это жизнью. В очень холодный и ветреный день он шел за гробом своего короля с обнаженной головой, держа каску в руке. Это последнее формальное выражение преданности старого слуги праху своего короля подорвало его и без того слабое здоровье: он заболел рожей лица и через несколько дней умер. Его смерть заставляет вспомнить дружинников древнегерманского князя, добровольно умиравших вместе с ним.
Таким же, как Герлах, и, быть может, еще большим влиянием на короля пользовался в 1848 г. Раух. Весьма одаренный человек, воплощение здравого смысла, смелый и честный, без школьного образования, с устремлениями настоящего прусского генерала в лучшем смысле этого слова, он неоднократно выступал на дипломатическом поприще в качестве военного атташе в Петербурге. Однажды Раух явился в Сан-Суси с устным поручением министра-президента графа Бранденбурга испросить решение короля по одному важному вопросу. Королю это решение стоило больших усилий, и он никак не мог дать окончательного ответа. Тогда Раух достал из кармана часы и, посмотрев на циферблат, сказал: «Сейчас остается еще двадцать минут до отхода моего поезда. Ваше величество должны будете все же приказать, должен ли я передать графу Бранденбургу «да» или «нет» или я должен буду доложить ему, что ваше величество не хотите сказать ни «да», ни «нет»: Эти слова были произнесены в раздраженном тоне, смягченном воинской дисциплиной, и в них выражалось недовольство, понятное у твердого и решительного генерала, утомленного продолжительной и бесплодной дискуссией. Король сказал: «Ну, так и быть, да». После этого Раух поспешно удалился, чтобы поскорее добраться через город к вокзалу. Постояв несколько минут в задумчивости, как бы взвешивая последствия принятого против воли решения, король, обращаясь к Герлаху и ко мне, сказал: «Ох уж этот Раух! Он не умеет правильно говорить по-немецки, но у него больше здравого смысла, чем у всех нас». И после этого, уходя из комнаты и обращаясь к Герлаху, он прибавил: «А умнее вас во всяком случае». Не знаю, прав ли был король в этом случае: Герлах был умнее, Раух практичнее.