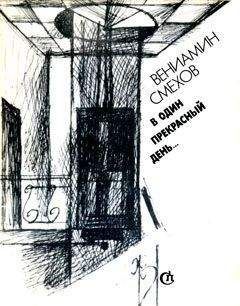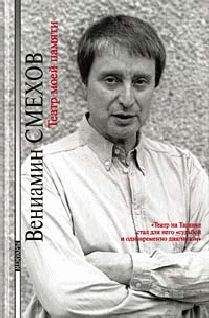Через некоторое время, поставив на Малой Бронной «Один год» Ю. Германа, Фоменко приступил в нашем театре к работе над спектаклем «Микрорайон» по Л. Карелину. Он молод, широк в плечах, спортивен и всем своим обаятельным, размашистым, веселым обликом заставляет вспоминать добрые слова «раблезианство», «эпикурейство» и почему-то даже «фламандская школа». Он оставил позади, кроме ГИТИСа и двух первых постановок, целую жизнь в своенравных переулках послевоенного Замоскворечья и студенчество в Московском педагогическом институте. Он не просто эрудирован, он – ходячая библиотека; он не просто музыкален – он врожденный «консерваторец», собиратель серьезных пластинок с вариантами Дирижерского прочтения и т. д. Он превосходно знает поэзию. Одновременно обладает завидным уровнем «научно-популярных» знаний, спортивной, общественно-политической и житейской информации… Можно еще перечислять составные части этой пирамиды, но важнее всего самый пик ее: Петр Фоменко посвящен искусству театра. Где бы он ни служил, где бы ни находился, в магнитном поле его обозрения немедленно сколачиваются блоки единомышленников. Он настолько талантлив что его идеям подчиняются немедленно и радостно. Я помню его первый рассказ: малознакомых актеров он агитировал за пьесу о Колумбах. Характеристики персонажей молниеносны. Формулировки задач парадоксальны и притягательны, а вся речь Фоменко столь обильно сдобрена тут же рожденными остротами, он так умеет по ходу дела рассмешить и удивить блеском иронии, что первая встреча с постановщиком спектакля превратилась в счастливое событие, в надежное обещание праздника. Процесс работы – это крушение актерских надежд на привычный отдых, на сонливую прилежность. Совершается продолжительная канонада фантазии. Фонтан фантазии. В потоке изобретательных суждений растворены и точное знание предмета, и одновременно мечта уйти от знания, избежать умозрительности, отдаться прихоти чувств. Это увлекательное занятие. Фоменко цепляет сегодняшнее настроение артиста, сталкивает его с текстом, будоражит партнеров, поле наэлектризовано до предела. Сцена сыграна – стоп! «Я подумал – я уверен…» – начинает стаккатированно режиссер. Из конца зрительного зала он барсовым прыжком оказывается на сцене и с ходу воплощает внезапную перемену. Он ее не объясняет, он ее дарит в виде метафоры: «Понимаете, это не любовная сцена – мы ошиблись. Она не унижается до объяснения в любви. „Я тебя люблю, мы должны быть вместе“ – это по-деловому. Но она не сволочь. Она жертва своей игры. А он для нее – карта. Хочу – переверну, тогда будешь козырь. А будешь тянуть, сопеть – готов. Я такая, завтра – новый козырь, все! Ясно? Она не дрянь от этого, она от этого – такая, а не всякая, другая. Тогда и тебе с ней – трудно. Надо обойти препятствие, тряхануть ее, убедиться в ее одушевленности. «Ты что? Ты кто? Кто ты? Кто?!!» Ясно? Говори мне текст!…» Я ему говорю текст, он идеально «показывает» Ее. Потом, если я что-то импульсивно меняю, ломается привычная интонация, рождается что-то хрупкое, необъяснимое… «ВО-ОТ!» – орет и хохочет режиссер. Хохочут еще двое-трое. Фоменко отбирает у меня реплики, теперь ему «подбрасывает» партнерша. Он хватается за мою случайную ноту, удесятеряет и утверждает ее звучание. Я перехватываю инициативу, актриса увлечена новой задачей, обостряет, как может, наши отношения, я сгораю от нетерпения – дойти до найденного куска… Дохожу, копирую режиссера с добавкой от себя (это еще не бронза, это ведь этап «в глине») – дружный хохот всех, кто в зале… Слово «я» здесь означает любого из моих товарищей. И может быть, меньше всего меня самого. К сожалению, мне мало пришлось как актеру сотрудничать с Петром Наумовичем.
…Назавтра он может явиться и все поломать. «Я подумал, я убежден – надо не так!» Это только вступление. Он взлетает рысью на подмостки, тормошит вчерашнюю «победу», издевается над ней, обзывает «детским садом», мотивирует новую, «окончательную» перемену. Этот праздник одухотворен высшим стимулом театра – стимулом Игры. В умных рассуждениях «застольного» Режиссера, в его четкой планировке мизансцен и темпоритмов есть свои заслуги, если есть талант. В процессе же работы такого, как Фоменко, идея и познание, размышления и иконография эпохи пьесы – все остается пережитым, обработанным багажом, пройденным этапом. На живой сцене с живыми актерами Фоменко творит внезапность, торопит предчувствие удивительных сюрпризов… И они являются… Режиссер волнуется материалом, его живым пересечением с кровью и плотью исполнителя… его волнует богатство красок, музыкальная щедрость голосов, его мучительно беспокоит непокорность пассивных участников.
Рыцарская преданность игре, искусству, живому делу лишила Фоменко многого. Например, пассивности «опушенных рук» в тяжелые годы его затяжного непризнания. Например, отчаяния от бытовых, «рядовых» предательств. Разумеется, эта же верность делу, да еще в таком африканском климате работ, объясняет и другие, скажем, досадные качества. Непрерывное горение вариантами, львиные прыжки на сцену и бесконечные переделки плохо совмещаются с плановостью постановок. Значит, кто-то должен нежно «хватать за руку», показывать на часы и следить за своевременностью результатов – да еще так, чтобы не обидеть, не возмутить «рыцаря». Для того чтобы отечественная сцена могла полнее насладиться плодами щедрого таланта режиссера, возле него должен находиться администратор с талантом Остапа Бендера. Нет, скорее Игоря Нежного. Или Александра Эскина. Или Исая Спектора. Чтобы вся организаторская, подготовительная, хозяйственная работа велась на уровне таланта, обаяния, эрудиции и юмора.
Однако, как большинство незаурядных художников, Петр Фоменко не отличается… «рахат-лукумом» характера, не служит примером уживчивости или повышенной терпимости. Возмутительно лишь то, как окружающие свидетели подчас разрушают логику оценок. Надо бы говорить (и этому нас устали учить примеры Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова, Мейерхольда – людей с «плохими» характерами) таким образом: «У него есть, конечно, то-то и то-то в характере, но, простите, какой театр, какой режиссер, какое удовольствие это свидетельствовать!» Нет, предпочитают изрекать обратное логике: «У него, конечно, есть талант и всякое такое, но, простите, что за характер, как он разговаривал с А.! как он посмел вести себя с Б.! и я свидетель, как от него уходили В., Г. и Д.!…»
Спектакль «Микрорайон» увидел свет и узнал успех. В полузабытое театралами здание повалил зритель. Замечательно играл роль матерого бандита Алексей Эйбоженко. С неожиданной для «газетно-положительного» героя горячностью, без конца сбивая очки на интеллигентной переносице, хорошо и обаятельно справлялся с ролью агитатора Леонид Буслаев. Всякому Фоменко подарил свою заостренную определенность. И молодому заносчивому другу бандита (Ю. Смирнов), и маленькому эпизоду с его невестой (Г. Гриценко). И высокой, красивой героине (Т. Лукьянова), и уморительно смешному «бровастому агитатору» (Н. Власов) с его самодовольным ни к селу ни к городу распеванием песни «Я люблю тебя, жизнь… я шагаю с работы устало!». Нравственная победа героя решалась изобретательно, была наглядной, яркой – и не только над физически опасным противником, но и над назидательным схематизмом литературной первоосновы. Спектакль был молодым праздником старого театра, и с ним боролись скучными придирками сторонники «зевающего реализма». Он был чужероден в своих стенах, но прогнать его было нельзя. Он и сослужил Сезуана», разделившему через полгода одну с ним сцену на Таганской площади. службу своеобразного «троянского коня». Он братски протягивал руку брехтовскому «Доброму человеку из