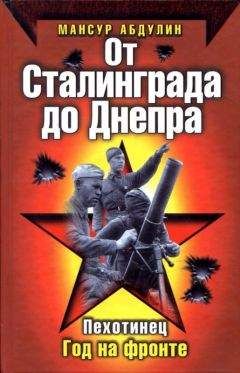В этот момент сзади со страшным треском разрывается крупнокалиберный снаряд. Чувствую, что меня поднимает в воздух и отбрасывает в одну сторону, а мою левую ногу - в другую! Причем я понял так, что ногу мне оторвало с корнем, у самого живота, вместе с ягодицей... Пока падал, мелькало в голове разрозненное: "Даже жгута не наложишь... Не осталось от ноги ни сантиметра... Потеряю много крови, и конец... Кишки и те не будут держаться... Лучше бы убило... Эх, Мансур, Мансур, и ранило-то тебя не по-человечески..." Едва приземлился, щупаю - нога на месте! Бедро скользкое, в крови, но на месте!!! Что за дьявольщина, почему же я свою ногу не чувствую?!
Оказывается, осколком снаряда перебило мне левый седалищный нерв. Это я узнал сам, только много позднее, в госпитале: что у людей имеются седалищные нервы, что поврежденные нервы перестают работать, и тогда нога висит, как тряпка...
А пока я лежу на земле возле огромной дымящейся воронки, в которую можно опустить и спрятать походную кухню, и мысль занимает меня пока одна - как бы мне, если не отобьем эту атаку, не оказаться у гитлеровцев в тылу.
Тело само пришло в движение - пополз, волоча за собой мертвую ногу с полным сапогом крови. Нога тяжелая. Невольно вспомнился солдат под Сталинградом, который сам отрезал свою ногу, как лишний груз... Но мне пока не столько больно, сколько страшно, как бы не угодить в плен к немцам...
Кто-то остановился и помогает мне встать. Это лейтенант Тарасов Алексей. У него разбита левая кисть. Я обнял его за шею, кое-как вспрыгнул на свою правую, и мы с ним на трех ногах проворно стали удаляться в направлении нашего тыла.
Сапог с моей левой ноги потерялся, и я даже не заметил, где и когда это произошло. Нога не чувствовала совсем.
На скошенном пшеничном поле нас обогнали две повозки с ездовыми, в одном из которых я узнал давнего боевого друга еще со Сталинградской битвы, того самого Моисеева - отца семерых дочерей, с которым мы форсировали Ворсклу,.. Моисеев нам сказал, что контратака немцев захлебнулась.
Почти невероятно, но судьба опять меня свела с этим человеком, и опять мне помогает спастись лошадь. Моисеев разгрузил свою повозку, толстым слоем набросал в нее пшеничной соломы, мы с Тарасовым легли на эту постель, и наша повозка резво помчалась к Днепру. Подъехали затемно. Через понтонный мост движение было односторонним - с левого на правый берег. А обратно переправляли только на лодках и катерах, и только раненых. Здесь мы простились с Моисеевым, и больше я его никогда не видел. На левом берегу нас ожидали грузовые автомашины с соломенной подстилкой в кузовах. Шоферы торопились до рассвета загрузиться и уехать как можно дальше от Днепра, так как днем фашисты начинали тут бомбить...
Наконец наша машина, выехав на дорогу, понеслась на восток. Дорога вся разбита, воронка на воронке. А машина несется, не сбавляя скорости. Шофер торопится умчаться как можно дальше, дальше от бомбежек, от войны... Мы в кузове гремим как дрова, но терпим. Нам уже не страшна тряска эта сумасшедшая, лишь бы скорее добраться до санбата... Шофер сделал короткую остановку и заглянул к нам:
– Терпите, братишки. Я знаю, что вам в кузове плохо. Но надо до рассвета уехать от Днепра... на сто - сто пятьдесят километров. Там санбаты, и туда не долетают фашисты. Терпите ради своего же спасения.
И опять рванулась машина, прыгая и виляя... Шоферам тоже трудно на войне было...
Подъехали к санбату. Нас погрузили на носилки, положили на твердую землю Шофер попрощался, он должен был теперь загрузиться снарядами, патронами - и опять обратно к Днепру... А нас понесли к операционным столам, которые были установлены в брезентовых палатках.
Хирург предупредил, что наркоза не будет. Всех оперируют "на живое"... Хирург стоял передо мной в белом халате, забрызганном кровью. Капли крови и на шапочке, и на маске, и на груди. Сильные его руки были похожи на руки шахтера или артиллериста. Меня уложили на операционный стол вниз животом и быстро примотали к столу бинтами руки и ноги. Хирург меня успокоил тем, что ягодица, где он будет делать операцию, такое место у человека, которое не требует от хирурга никакой осторожности. И это место можно резать без всякой опаски для жизни.
– Будет больно, но несмертельно. Лежи спокойно и не мешай мне работать! Понял?
Я лежу и думаю, что действительно хирург прав Ну, что это такое, ягодица? Мягкое место человека... А сам поглубже прячу голову в кучу ваты - если буду орать, то в вату...
Казалось, что хирург не резал, а тянул и рвал на части мое тело, чтоб достать глубоко сидевший осколок.. Орал я сильно. До хрипоты, как бывало сотни раз, когда мы броском ходили в атаку. Там орали, чтоб подавить свой собственный страх и чтоб испугать фрицев. Когда орешь благим матом, делаешься сам смелей и страшней перед врагом... А теперь я орал, чтоб заглушить жуткую боль в теле, которое разваливает ножом хирург...
А хирург не мешал мне орать. Ему важнее, что я не прыгаю на операционном столе. А мой оглушительный рев ему не мешал... На войне все понимают друг друга без слов.
Жгучая боль стала общей и ровной. Потом прогремел упавший в таз осколок. Потом комариные укусы иглы. Потом перевязка широким бинтом. Это уже не хирург. Девичьи руки я почувствовал всеми нервами моего обиженного болью тела, уловил доброе прикосновение пальцев, неизвестно кому принадлежавших. И только мое воображение рисовало божественный образ белокурой красавицы... Я не мог видеть ее, потому что лежал лицом вниз. И на носилках лежал подобным образом и поэтому не увидел ту, которая прикоснулась первой к моему сердцу...
Утром нас погрузили опять в кузов грузовика и переправили в полевой госпиталь - в районное село Новые Санжары.
Не помню я номера эвакогоспиталя в Новых Санжарах между Полтавой и Кременчугом. А помню первую баню. Баню организовали с помощью местных жителей - стариков, женщин и детей. Все мало-мальски трудоспособные новосанжарцы пришли помочь медицинским работникам госпиталя в этой сложной и очень трудоемкой работе - помыть окопных солдат с тяжелыми ранениями.
Все поступающие сюда солдаты - очень грязные, обросшие. Тут их отмоют, подстригут, и будет солдат как грудной младенец - чистенький, обласканный, накормленный.
Баня эта совсем не баня, а какая-то контора или начальная школа. Носят беспрерывно люди воду откуда-то. Из Ворсклы?.. Молодые и сильные - на коромыслах, целой вереницей, как муравьи. Во дворе над огромными кострами в огромных котлах и в железных бочках греется вода. Горячую воду заносят в помещение, где топятся железные печки, чтоб обогреть воздух. Всюду комната уставлена столами, лавками, топчанами, застелена белыми простынями, а на них лежат раненые солдаты - голые, в чем мать родила...
Вокруг солдат суетятся деловито женщины, старики, девушки, которые ловко намыливают солдатское тело огромными мочалками и трут, и трут без всякого стеснения. А солдат лежит, блаженствует, хоть и болит его рана, хоть и торчит, как пень, культя его ноги... Солдату и щекотно и больно. Солдат не знает, на что ему реагировать: или на боль, или на щекотку от мочалки и от женских рук... Бабы торопятся - моют, полоскают, опять мылят - надо скорей управиться с этой работой, но солдаты просят со слезами, чтоб их еще и еще мылили. Тела соскучились по мылу, по воде, по бане. Вот счастье-то, а? Хоть и ноги нет, а солдат счастлив, как ребенок, в бане этой.
Солдаты пялят свои глаза на женщин-мойщиц. Сколько уже лет некоторые не видели женских лиц! Мойщицы солдатам намыливают сначала головы, чтоб не пялили они свои жадные и просящие очи на них. Но солдат, претерпевая разъедающее вонючее мыло, все равно широко открытыми глазами разглядывает женскую фигуру.
А бабы хлоп мыльной пеной по очам: "Шоб нэ бачив!" Мотнет солдат головой, пену сбросит и опять пялит свои очи...
Милые вы женщины, какие вы тогда были для нас красивые и родные в той бане в Новых Санжарах! Не было среди вас тогда некрасивых. Все красивые! Все до единой! На вас были надеты белые халаты. Сквозь тоненькую намокшую ткань было видно ваше прекрасное тело. Такой красоты я нигде не встречал ни до этого, ни после. Заявляю: в Новых Санжарах жили и живут самые красивые женщины!.. А вы намыливали нам глаза, чтоб мы "нэ бачилы"!
Я в той бане лежал на лавке лицом вниз и мог "бачить" у женщин-мойщиц только босые ступни ног. Я любовался и босыми ступнями, а остальное мог видеть только благодаря своему воображению.
Вот ступни ног молодой женщины. Они похожи на ступни ребенка... А вот уже немного деформированные от ходьбы. Этой женщине лет тридцать. Но какая она сама? Очень хорошая, наверное... Вот девушка моего возраста... Эх, посмотреть бы на нее!..
Но не могу ее увидеть, лежа на животе. Не везет мне всю жизнь. Ранило - и то не по-путевому! Лежи и рассматривай половицы...
Вон рядом на топчане лежит кверху лицом солдат. Ему хорошо! Он разглядел всех женщин и лежит, улыбается, довольнехонек! Ему и мылом не смогли замазать глазищи. Он говорит, что мыла он не боится, что мыло на его очи не действует.