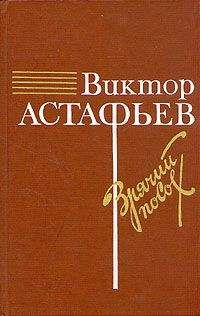А теперь послушаем его последнее произведение, неоконченную повесть»…И всему роду твоему». И тоже начало. Делаю это сознательно — для сравнения:
«Шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга — густая и туманноседая, как и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь и свиная кожа стала неряшливо-пегой, а не первозданно-желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может быть, только из-за этого перчатки сильно воняли…
Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски-роскошным рокотом, обдав его грязью, — шофер, наверное, поддал газу, а Сыромуков подумал: как много развелось на свете оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом, глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно — оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так, под горлом, стесненнозатихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним, через долгую, как целый век, паузу — второй, потом третий, а после начиналась скакучая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Этот страх каждый раз был новым, свежетрепетньш ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, а страшилось все тело, и больше всего — глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение: они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе — зачем они это проделывали?..
Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом — наверное, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут, на всякий случай, окажется сухое место…»
Вот такая вот картина, на мой взгляд, не требующая никаких комментариев.
Между «тем» и «этим» началом лежит жизнь художника. Ах, как не ценим мы ее, чужую-то жизнь! Все еще не научились. Или разучились? На бумаге больше, в застольной болтовне «проявляем заботу о ближнем».
Но почему-то мне хочется вернуться еще к той, ранней повести.
В деревне Шелковке орудует продотряд, возглавляемый матросом. И сам он, и продотрядовцы очень уж круты, революционно-беспощадно настроены, что и дает повод сбегать к белым посыльному и сообщить, что «Шелковку грабят».
И вот «на рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные подотрядовцы, как разбрызганные, кинулись в огороды, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей — тоже».
И он, и Катерина, та самая, что ходила купаться в ковыли, пробовали отстреливаться, Катерина вместе с сыном хозяина того дома, в котором они останавливались, погибли; самого хозяина, Матвея Егоровича, русского крестьянина, ярко, земно написанного К. Воробьевым, и матроса — повели за село. «На спуск к реке они двигались через податливо расступившихся баб и детей, и под свой плавный, широкий шаг матрос не переставал просить: «Может, кто взял бы ребенка, а? Восьмой месяц ему… Алексеем зовут, а?» Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками…
Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей чернобылом и пыреем, повели к Бешеной лощине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки и безмятежно и кротко сияли в росной траве безымянные шелковистые «тветы». Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и конвоиров, минуя заросли, на чистую поляну. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул на матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным горячим ужасом, Матвей Егорович почти закричал: «Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, острастку напустят и…» — Он так и не понял, что было первым: обвальный грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал косо, с плеча. Подвернув под себя голову, он судорожно начал подгребать одной рукой, будто искал что в траве или плыл к неведомому берегу.
Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурив глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаз, он торкнулся головой на ребенка, на его голос, схватил и приподнял его навстречу конвоирам, как икону: «Люди! Люди!..» — ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой словами выразить было нельзя.
«Люди! — шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собою ребенком».
Эта вот сцена со своей душу обдирающей трагичностью, глубочайшим философским смыслом, написанная столь красочно, напряженно и жизненно, право же, стоит некоторых современных анемично-водянистых рассказов и даже романов. Но боюсь быть пристрастным и передам слово опять Евгению Носову:
«…Сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темперамента и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем, в чем я и убедился уже потом, при близком знакомстве с писателем.
Константин Воробьев любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговея над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на звонкой наковальне.
На этом огне он и сгорел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц».
«Повествуя о жизни простых людей, он всегда стоял на позиции этих людей, и никогда сверху от них или сбоку, — пишет критик Ю. Томашевский. — К. Воробьев не выносил жизни по регламентации, порожденной темнотою и ханжеством, что остались в наследие нам от ушедшего навсегда прошлого. Борьбу за утверждение умной, созвучной с двадцатым веком жизни — он считал первейшим делом литературы… Воскрешая в памяти былое — пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он».