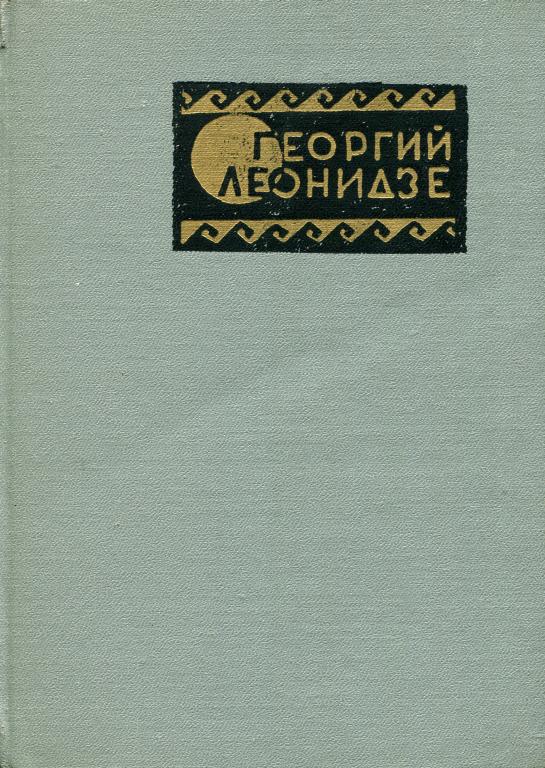будет по-твоему! — хихикнул пронырливый Катата.
Одержал верх тамада, поставил на место наглеца, положил конец своеволию!
Все позабыли короткий их спор. Пир продолжался. Чаши и роги летали по кругу… Гости хмелели… Гремели песни — «Оровела», «Урмули»; спели и «Семерых гурджаанцев»… А Катата разохотился, разошелся, пыхтел, молол без умолку:
— Я почему пью? Потому что вчера дедушка покойный во сне мне явился и просит: скорей, внучек, помяни, отмоли, выпей за упокой моей души, а то душат меня земные грехи, ведь я на селе старостой был и уж нагрешил всласть… И то, говорит, ты опоздал с поминовением. Так уж поторопись! Да к тому же и фамилия у меня такая — Зедашидзе [4], так что как мне не помянуть деда, не выпить? Вот почему я пью — а иначе не стал бы пить, разве мне до вина?
Шумел, болтал, гомозился пьянчужка, бездонная пасть, незваный гость; разгоряченный, налегал на вино, осушал чашу за чашей, всех затолкал, кто сидел рядом.
Наконец снова вспомнил про тамаду, спел ему: «Дай нам не вино, так воду, иль хоть снегу принеси!»
И добавил назидательно: кувшин никогда не должен высыхать!
…И вплывали влажные кувшины, бутылки, хелады и гозаури, опорожнялись, булькая, роги и чаши…
Хозяйская невестка метала искры, сверкала черными озерами-глазами — дескать, поспорю прелестью с самим солнцем… Молодые, горячие парни с трудом заливали вином попавшие в них искры ее глаз — неровен час, сгоришь вместе с чохой и архалуком, даже горсточки пепла не останется…
Только было поднес Тлошиаури горячий, еще шипящий свиной шашлык на вертеле разошедшемуся тамаде, как Катата, внезапно разъярясь, грохнул изо всех сил кулаком об стол и заорал:
— Переменить тамаду! Отставить! Сместить! — От его ослиного рева проснулась даже дремлющая бабушка Марадия.
— Этот еще откуда, на грех, объявился? Ах, сгори твоя колыбель! Кто его впустил, сучьего выкормыша? Бегал бы собачьими тропками, божий отверженец! Тьфу, сгореть тебе в огне и огня наглотаться! — проклинала задиру старуха — а впрочем, в душе, пожалуй, и обрадовалась, что разбудили ее: можно было возобновить наблюдение за охотником и Дудгубой…
Три слова проревел Катата — но слова эти могли сокрушить скалы! Тамаде показалось, что с дома слетела крыша, что небо свалилось ему на голову! Что? Что сказал этот бездельник, чтоб ему рассыпаться в прах? В самое сердце уязвил тамаду!
И Гвинджуа повесил седую голову. Пал духом гордый тамада! Так у оробелого коня, бывает, ослабнет становая жила…
Гвинджуа не верил ушам, так неожиданно было то, что он услышал. Дерзость, непочтительность! Выходка Кататы перевернула ему душу. Он готов был запустить в наглеца тлеющей головешкой.
В самом деле! Всю жизнь восседает во главе стола, на месте тамады Гвинджуа, а такого оскорбительного, неподобающего слова никто еще не осмелился ему бросить! Да еще так явно, во всеуслышание! Вот в чем горе! Вот что безбожно!
Отравили душу человеку среди блаженства! Тамаде, баловню пира! Подумал было Гвинджуа водворить мир тихим, обдуманным, осторожным словом — дескать, труда и усердия я не жалел, на ласку и любовь не скупился… Но потом все же решил промолчать, сохранить достоинство. Да и зачем идти против своей охоты?
— Сместить тамаду! Такое мое желание! — кричал, надрывался разъяренный его враг, черно-багровый от вина Катата.
— Почему это? С какой стати? — возразил было Тлошиаури, уютно и увлеченно управлявшийся в уголке со свиной головой, но тут же оборвал — мясистая челюсть хряка целиком занимала его…
— Как можно? Ты, что ли, его выбирал? Сиди, помалкивай!
— Тебя-то кто спрашивает? Явился незваный и еще распоряжается! — гаркнул Хичала и потянулся к смутьяну жилистыми руками.
Овчар Мгелхара улыбнулся…
Пьяному Катате не хватило прыти сцепиться с каменщиком; он только приподнялся, пробормотал: «Эх ты, укроп с огородной грядки!» и осел обратно на скамью… умолк… Долго он еще тряс и толкал соседей, но никто ему не поддакивал, и он, обессилев, захрапел…
Тамада сидел некоторое время молча, словно утратив дар речи, потом наконец пришел в себя, сам наполнил свой рог и произнес нетвердо:
— За дружбу и за согласие!
— Братства сень, укрой и защити! — говорил дрожащим голосом вымученные, насильственные слова Гвинджуа — чуть было не осужденный, спасшийся на волосок от позора, но ободренный поддержкой застольцев тамада…
Но стыд ведь — камень, огромный, тяжелый! И камень этот навалился ему на сердце. С этой минуты Гвинджуа был уже не тот, что прежде. Поникло гордо развевавшееся знамя его души! Словно ему подрезали крылья — куда делись давешние его охота, готовность, властность? И уж не перебирал он легко жемчужины-слова — словно зерна на четках, а вытягивал их из себя силком.
— Смотри, как он под меня подкопался! Экую свинью подложил! Нет, довольно! Подниму прощальную, всесвятскую и уйду, брошу все… Для людей ведь стараюсь, ради них труды мои и мученье — а то какая мне корысть? — скорбел Гвинджуа.
В самое сердце поразили тамаду!
Осиротел стол, остался без заботника и радетеля, исчезло благочиние, потускнело веселье. Ни порядка, ни приличия! Вокруг галдели, горланили, как на мельнице; точно, перекликаясь, искали друг друга в Хархатском лесу!
— Пейте, братцы, пейте вволю, заиграй гульба-веселье! — орал Ципруа.
Богатырская кровь растеклась по жилам! Оживился стол, забродило, запело, загудело в крестьянах вино. Появился и разогретый над пламенем, увешанный погремушками бубен… Выскочил вдруг на середину комнаты охотник, прошелся в степенной грузинской пляске и поклоном пригласил молодку. Та точно только этого и ждала: рванулась с бьющимся сердцем, раскинув руки, гибкая, как плеть, всех чаруя, все взоры к себе приковывая… Летала по кругу, едва касаясь пола… Весь свет попрекала своей красой огненная жар-птица…
Бубен еще пуще разгорячился.
— Хороша ты, фазаниха, хороша — на загляденье! — хлопали в ладоши гости.
Как она была счастлива!.. Но счастью вдруг настал конец, когда вместо охотника появился перед красоткой овчар Мгелхара, затопотал неуклюже, по-пастушьи, загрохотал, как горный обвал, пол под ним заходил ходуном.
— Вот встрял перед глазами, будь он неладен! Словно ночь мне солнце затемнила!
Таракуча, Ципруа и Тлошиаури затеяли общий пляс, чехардой — потоптались, шатаясь и сталкиваясь, да ничего у них не вышло: так и вернулись на свои места.
Тамада сидел в стороне, в обиде — воин, покинувший поле битвы!
— Наддай, наддай жару, тамада! — теперь уже застольцы упрашивали его, но Гвинджуа погрузился в глухое молчание; словно перекрыли мельничный ручей в истоке!
— Вот так оно бывает — одна паршивая мышь упадет в вино, целый кувшин сорокаведерный испоганит! Что ты слушаешь этого обалдуя? У него мозги набекрень — море пашет, сеет песок! Что поделать — не могу же я его выставить за дверь! Ну, а завтра увидишь, как я с