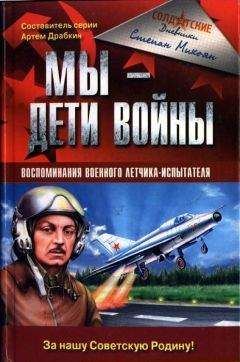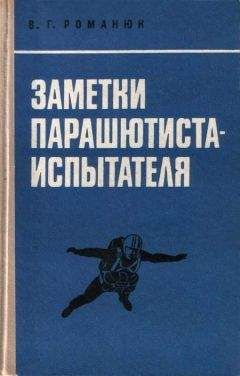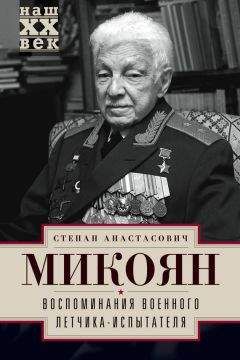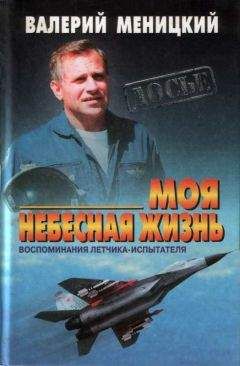Очень компанейский, веселый, общительный и прямой, он был хорошим товарищем и имел много друзей. Не терпел нечестности и недоброй хитрости. В школе его любили ученики и учителя, хотя он бывал заводилой многих проделок и доставлял иногда учителям мелкие неприятности. (Как-то в последний день занятий перед летними каникулами он встал на колени перед учительницей и пропел: «Последний день, учиться лень, и просим вас не мучить нас!»)
При всем этом Тимур был начитанным, образованным и хорошо учился. Он любил литературу и живопись, интересовался историей, свободно владел немецким языком (у них с сестрой Таней в детстве была воспитательница — немка, и в доме Ворошилова жила в качестве члена семьи экономка, тоже немка, Лидия Ивановна, я ее хорошо помню). Тимур был очень увлекающимся и отчаянно смелым, до безрассудства. Кто-то из инструкторов в летной школе сказал ему, что при его бесшабашности он долго не пролетает: «Убьешься!» (после того как он, увлекшись пилотажем в зоне на У-2, снизился до очень малой высоты, за что сутки сидел на гауптвахте).
Тимуру посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. На встречах с детьми, рассказывая о нем, я обычно говорил, что Тимур, так же как и мой брат Володя, память которого тоже чтили в двух школах, не совершили больших подвигов — просто не успели их совершить, хотя, как личности, они были готовы к ним. И чтят их скорее как символы, отражающие судьбу многих сотен тысяч юношей, стремившихся защищать Родину и отдавших за нее свои, можно сказать, еще не прожитые жизни.
В больнице я оставался около двух месяцев, а потом долго еще был на амбулаторном лечении. Болело правое колено, я сильно хромал, а на левой ноге не заживали раны от ожогов. В начале апреля я улетел в Куйбышев, где, как я уже упоминал, жили в эвакуации мама и братья.
Травмированное колено оставило мне физическую память о войне на всю жизнь — я частенько хромал, иногда заметно для окружающих. А в последнее время — всегда. Несколько раз случались обострения, когда коленный сустав наполняется жидкостью — врач высасывает шприцем почти до ста кубиков (вместо одного-двух в нормальном суставе), и тогда я ходил с трудом — колено болело, и нога почти не сгибалась. Но, к счастью, тогда, после амбулаторного лечения, меня допустили к полетам и потом тридцать лет допускали без ограничений, хотя тренировочные парашютные прыжки запрещали. Откровенно говоря, это меня не очень огорчало. Как-то вскоре после войны профессор Бакулев увидел меня на теннисном корте. «Смотри! На костылях ходить будешь!» — сказал он, но, к счастью, ошибся — я играл в теннис до 78-летнего возраста.
В поликлинике в Куйбышеве познакомился с двумя старшими лейтенантами, тоже проходившими амбулаторное лечение после ранения: Рубеном Ибаррури, сыном вождя испанской компартии знаменитой Долорес, и Леонидом Хрущевым. Оба уже имели по ордену Красного Знамени. С Рубеном, высоким, красивым и веселым парнем, мы встречались недолго — вскоре он уехал в Москву. Потом я узнал, что он попал в десантную дивизию командиром пулеметной роты, в бою под Сталинградом был ранен в живот и, как рассказывали, тут же покончил жизнь самоубийством.
Старший лейтенант Леонид Хрущев — летчик с довоенного времени, с первого дня войны участвовал в боевых действиях. Он совершил около тридцати вылетов на бомбардировщике Ар-2 (вариант самолета СБ).
В конце июля 1941 года самолет Леонида был атакован немецким истребителем. Леонид едва дотянул до линии фронта и сел с убранным шасси на нейтральной полосе. Штурман погиб при посадке, радист был ранен, а у Леонида при посадке оказалась сломанной нога. По его словам, «кость торчала наружу через сапог». Их выручили наши солдаты. В полевом госпитале у Леонида хотели ногу отрезать, но он не дал, угрожая пистолетом. Нога очень плохо заживала — он лечился более года.
Леонид Хрущев был хороший, добрый товарищ. Мы с ним провели, встречаясь почти ежедневно, больше двух месяцев. К сожалению, он любил выпивать. В Куйбышеве в это время был командированный на какое-то предприятие товарищ Леонида, Петр, у которого в гостиничном номере мы вечером часто бывали. Приходили и другие гости, в том числе и девушки. Помню, что был патефон и пластинки полузапретного Петра Лещенко, песни которого я уже тогда любил. И до сих пор, если удается услышать его голос, я вспоминаю свою юность и эти дни в Куйбышеве. Я при этих встречах почти не пил, а Леонид, даже изрядно выпив, оставался добродушным, никогда не «буйствовал» и скоро засыпал.
Бывали там и две молодые танцовщицы из Большого театра — Валя Петрова и Лиза Остроградская, с которыми мы познакомились и подружились. Большой театр был тогда в Куйбышеве в эвакуации. До этого еще в Москве я познакомился, а потом виделся и в Куйбышеве с прима-балериной этого театра Ольгой Васильевной Лепешинской, с которой дружил все эти годы и до сих пор. Эти встречи приобщили меня к балету на долгое время. Я и сейчас к нему неравнодушен, хотя хожу в основном в драматические театры.
В один из последних месяцев 1942 года Леонид неожиданно появился в Москве, и мы с ним увиделись. Недолечив ногу, он ехал на фронт, получив разрешение переучиться на истребитель Як-7Б. Через некоторое время я в Москве встретился с Петром — приятелем Леонида, и он рассказал мне о происшедшей осенью в Куйбышеве трагедии. Однажды в компании оказался какой-то моряк с фронта. Когда все были сильно «под градусом», в разговоре кто-то сказал, что Леонид очень меткий стрелок. На спор моряк предложил Леониду сбить выстрелом из пистолета бутылку с его головы. Леонид долго отказывался, но потом все-таки выстрелил и отбил у бутылки горлышко. Моряк счел это недостаточным — сказал, что нужно разбить саму бутылку. Леонид снова выстрелил и теперь попал моряку в голову. Леонида осудили на восемь лет с отбытием на фронте (во время войны существовала такая форма отбытия уголовного наказания военными). Поэтому он и уехал на фронт с еще не совсем зажившей раной. При нашей встрече в Москве он об этой истории умолчал.
А о его гибели мне рассказал летчик, который, как мне запомнилось, был участником последнего боя Леонида, — Иван Жук, в 1943 году переведенный в 12-й гвардейский полк, в котором я тогда служил. Жук видел в бою 11 марта 1943 года (или знал по рассказу участника боя?), как идущий на вираже в хвосте Леонида истребитель «Фокке-Вульф-190» дал очередь и самолет Леонида левым полупереворотом перешел в пикирование. Падения самолета никто не видел из-за продолжавшегося боя и сильной дымки внизу. То, что «фокке-вульф» сумел на вираже сбить более маневренный «як», можно объяснить тем, что Леонид, будучи летчиком-бомбардировщиком, не успел как следует освоить пилотаж на истребителе и не смог выполнить вираж с предельно малым радиусом. Вот судьба — не помешал бы врачам отрезать ногу, возможно, был бы жив и сейчас.