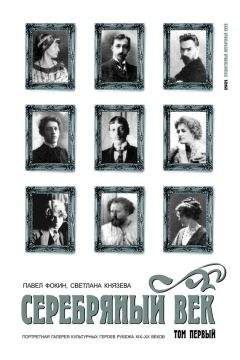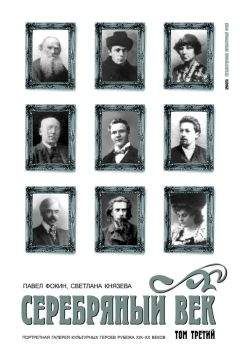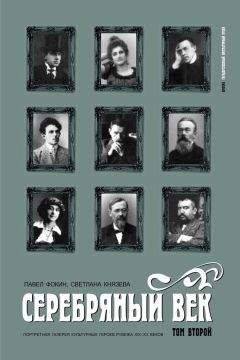Что еще характерно для Балиева, – его азарт. Балиев был страстный игрок. Первое свое состояние, полученное от отца, он проиграл где-то на Дальнем Востоке. Говорить об этом он не любил. Затем в Москве он играл во все, во что только можно было играть. Больше всего увлекался скачками. Вечно проигрывал и невероятно страдал. Завидовал счастливо играющим Москвину и Грибунину. Когда ставил с ними вместе, проигрывали и они.
Результатом театральной жажды Балиева было создание своеобразного русского театра. Этот театр возник из небольшого артистического клуба, где группа лиц во главе с артистами Художественного и Малого театров устраивала свои шуточные интимные вечера раза два в месяц.
В. И. Немирович-Данченко к затее Балиева отнесся сердечно, К. С. Станиславский – совершенно отрицательно.
…Кроме того, Балиев прославился и как устроитель знаменитых капустников Художественного театра» (Ю. Ракитин. Весельчак № 1).
«Он обладал даром мгновенной импровизации, несомненным остроумием, задорно вступал в беседу со зрителем, пел, вернее, произносил куплеты и являлся подлинным хозяином вечера. Вступать с ним в беседу или отвечать на его реплики было опасно – Балиев смело и находчиво, порою грубовато, но отлично чувствуя зрительный зал, парировал реплики смельчаков» (П. Марков. Книга воспоминаний).
«Балиев не полагался только на свои импровизационные способности. Он „выстраивал“ конферанс, обладая чувством меры, и никогда не перенасыщал программы своими выступлениями, хотя публика его очень любила и весьма неохотно отпускала с просцениума. Он не появлялся перед началом спектакля. Первый номер шел без конферансье, а зрители нетерпеливо ждали его. Это ожидание, естественно, росло. Когда же по ходу спектакля Балиев выходил из разреза занавеса, он, встреченный дружными аплодисментами, ограничивался кратким объявлением следующего номера. При дальнейших своих появлениях он разрешал себе слегка пошутить, сделать смешную гримасу. И только перед концом первого отделения у него как бы случайно завязывался разговор с публикой, который незаметно переходил в монолог. Конферировал Балиев очень свободно, порой импровизируя, порой имея готовый текст, предлагал „кстати“ послушать новую песенку, которую к тому же мастерски исполнял.
…Программа „Летучей мыши“ украшалась иногда „сюрпризами“. Балиев обращал внимание публики на присутствующего в зрительном зале дорогого гостя – известного популярного артиста. После радушной встречи, которую собравшиеся устраивали гостю, последний не мог отказать в просьбе Балиева, выходил на сцену, чтобы исполнить какой-нибудь номер своего репертуара. В большинстве случаев эти „сюрпризы“ были заранее и подробно оговорены, вплоть до гонорара.
В антракте Балиев появлялся в фойе с кем-нибудь из своих актеров и объявлял интермедийный номер, исполнявшийся тут же, в фойе, на небольшой лесенке, ведущей в верхний ярус» (Э. Краснянский. Встречи в пути).
«При всей своей прочно установившейся репутации одного из самых веселых и остроумных людей, Балиев был молчалив, задумчив, раздражителен, угрюм, темпераментом обладал холерическим и, по уверению все того же Н. Н. Баженова, всю жизнь блуждал меж трех сосен.
Одна сосна была Ипохондрия, другая Неврастения, а третья Истерия.
– Но, – хитро улыбаясь, добавлял московский психиатр, – блуждать-то он блуждал, а, как видите, все-таки не заблудился.
Справедливость, однако, требует сказать, что одной ипохондрией успеха и славы не добьешься.
Надо было обладать несомненным и недюжинным чутьем, вкусом и талантом, чтобы достичь той славы, которая увенчала карьеру Балиева.
Талант у него был по преимуществу режиссерский, и постановщик он был на редкость незаурядный.
Что касается вечного недовольства и неудовлетворенности, то и эти черты характера сослужили свою службу.
Круглые бездарности всегда от самих себя в восторге.
К этому надо прибавить еще одно: явление случайное, но чрезвычайно умно и необъяснимо использованное. – Наружность, данную от Бога и от родителя, нахичеванского купца, торговавшего красным товаром.
Василий Иванович Шухаев… написал Балиева коричневой гуашью, изобразив его в виде круглого, улыбающегося полнолуния.
Этим полнолунием Балиев и промышлял.
В Москве, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, по всему белу свету прогуливая свою „Летучую мышь“, высовывал он в прореху опущенного занавеса то нарочито хмурую, то обезоруживающе-добродушную нахичеванскую луну, передергивая ее какой-то непонятной, загадочной, но уморительной гримасой, и быстро задергивал занавес.
Лед был сломан в мгновение ока.
Зал покатывался со смеху» (Дон Аминадо. Поезд на третьем пути).
БАЛТРУШАЙТИС Юргис Казимирович
20.4(2.5).1873 – 3.1.1944
Поэт, переводчик, театральный деятель, сотрудник журнала «Весы», издательства «Скорпион». Публикации в журналах «Весы», «Новый путь», «Золотое руно», «Новый журнал для всех», «Русская мысль» и др. Стихотворные сборники «Земные ступени. Элегии, песни, поэмы» (М., 1911), «Горная тропа. Вторая книга стихов» (М., 1912), «Лилия и серп» (подготовлена в 1910-е; Париж, 1948).
«„Угрюмый, как скалы Севера“, выражение Бальмонта, Балтрушайтис вечно мрачен и молчалив. Здоров он тоже, как скала» (Б. Садовской. «Весы». Воспоминания сотрудника. 1908–1909).
«В известной мере среди символической группы – вообще не очень однородной и не очень дружной – он имел позицию некой „особой точки“, как выражаются математики: не думаю даже, что он вполне подходил под наименование „символиста“. Его творчество овеяно духом старых поэтов: Баратынского и отчасти Тютчева. Его поэтический голос негромкий, но глубокий и вдумчивый – он творил вполголоса. И весь он был замкнутый, чрезвычайно молчаливый – мог просиживать в обществе часами, не сказав ни слова. К новаторам поэтического слога и выражения он не принадлежал – в его стихах нет литературной и поэтической новизны форм выражения, лексикон его не выступает из классических границ. И в своем кругу он был тих и замкнут и не пользовался теми громкими лаврами славы, которые все-таки успели выпасть на долю Бальмонта, Брюсова, Блока, Мережковского, даже Андрея Белого.
…Внутренний мир этого странного, замкнутого человека публично почти не раскрывался. Он не любил и избегал выступать с чтением своих произведений, говорил, что их „лучше читать, чем слушать“. Возможно, что он вообще был прав, что стихи сделаны не для произнесения, а для внутреннего чтения. Сам он читал глухим, маловнятным голосом, почти без интонаций. Внутренний его мир раскрывался в дружеской беседе – чаще всего вдвоем, в особенности при помощи и посредстве приличного спиртного напитка, которым обычно была простая российская водка. Тут, кстати, я должен заметить, что вообще в составе символистов и в частности в группе пяти великих „Б“ (Бальмонт, Блок, Белый, Брюсов, Балтрушайтис) было пять премированных алкоголиков, способных напиваться до бесчувствия, и один наркоман (Брюсов). Стоявшие вне группы великих „Б“ Сологуб, Мережковский и Вяч. Иванов были менее выдержаны в национальном стиле.