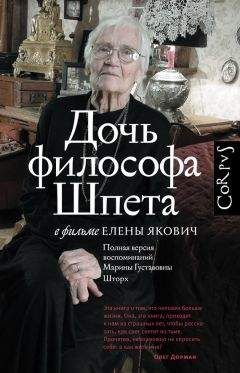И вот в один прекрасный день – 18 декабря 1935 года – мы отправились в путь на небольших санях, запряженных почтовыми лошадьми. На первых санях ехали возница и папа с Норой. А на вторых я и куча всяких вещей – узелков, чемоданчиков, весь нехитрый наш скарб. И меня еще научил этот вот ямщик: если лошадь вдруг заупрямится и встанет, то вы, говорит, дерните ее за поводья, она и поедет…
Эта дорога оказалась совершенно замечательной. До сих пор думаю о ней как о самом чудесном приключении моей жизни. Погода была хорошая. Много солнышка, минус 15–20 градусов, очень тепло, как нам всем показалось. Дорога шла через тайгу, была немножко утрамбована, и по бокам хорошо видны были две колеи. Вероятно, ни одна машина там тогда не проезжала. Ничего, кроме лошадей. И волки выли в лесах, и кто-то летал временами, и солнце, и ослепительный снег…
Наверное, дня три мы так ехали. Мы с Норой менялись местами: то она с папой, то я. Изредка, раз в сутки, попадалось какое-нибудь селение. Иногда всего из нескольких избушечек, иногда побольше, но все маленькие, даже поселком не назовешь, а так, скорее деревушка или хуторок. Ночью мы останавливались в сторожках. Это были такие деревянные домишки с железными кроватями, застланными явно нестираным, совершенно затасканным бельем. Но самовар подавали и чай пили. И лошади наши не менялись, за ночь отдыхали – и утром те же лошади продолжали путь.
Так снова я оказалась в Красноярске, нашем перевалочном пункте. Несколько дней мы прожили у родителей нашего енисейского сибиряка Кытманова. Отослали посылками обратно в Енисейск все снаряжение, которое нам дали на дорогу. И уже на поезде отправились в Томск.
А в Томске у нас был один адрес, полученный из Москвы. Дело в том, что у Натальи Казимировны Шапошниковой, жены Бориса Валентиновича Шапошникова, папиного друга и сослуживца, была в Томске тетя – Изабелла Викентьевна Бравич, сестра знаменитого трагика. И вот к этой Изабелле Викентьевне и к ее мужу, томскому профессору Николаю Александровичу Карташову, у нас было письмо.
Там у вокзала большая поляна была. И на этой привокзальной поляне стояли тогда еще, конечно, только извозчики. Ну, мы взяли извозчика и отправились к этой самой Изабелле Викентьевне. Она нас встретила радостным известием: «Представьте себе, что вчера я с большим трудом, но нашла для вас все-таки квартиру!» Накануне она утром ушла на поиски и только к вечеру вернулась домой. Целый день ходила, уже думала, что ничего не выйдет. Ей говорили или «у нас уже сдано», или «мы не сдаем». И вот в последнем доме она сказала: «Какой ужас, приедут люди в ссылку, и негде им переночевать». – «Как в ссылку?» – «Так, они в ссылку едут». – «А вы бы сразу сказали, что в ссылку! Конечно, ссыльным сдадим! Раз ссыльные – значит, порядочные люди». Так вот мы попали к этим Виленчикам. И в этой квартире мы прожили еще год и десять месяцев – все, что папе было отпущено в Томске.
В Томск мы прибыли 24 декабря. А уже на следующий день, в католическое и протестантское Рождество (а папа, как я говорила, был лютеранином), он отправился на регистрацию в местный НКВД. Потом он каждый месяц туда ходил – пятого и двадцать пятого числа.
Нора, несколько опоздав на работу из-за нашего переезда в Томск, под самый Новый год уехала в Москву. А мы с папой остались опять вдвоем.
Так в Томске мы встретили 1936-й. В новогоднюю ночь папа разбудил меня: «Слышишь?» Я испугалась: «Что?» – «Неужели не слышишь, как в Москве кричат: «С Новым годом!» В Томске было уже четыре ночи из-за разницы во времени, но папа не спал. Думаю, дожидался, когда в Москве пробьет полночь, чтобы хотя бы мысленно поздравить дорогих его сердцу москвичей.
Между тем приближалось 13 января – не только старый Новый год, но и день рождения Норы. Она мне писала:
Я воспринимаю свою жизнь в Москве как некую измену вам. Приехав только с мыслями о вас, с рассказами о вас, я не могла жить так, как мне хотелось, т. е. продолжая мое непрерывное общение с вами… Ведь вы оба были моими незримыми гостями у меня на елке 13-го: в честь вас и Сибири я своих гостей угощала пельменями. С нежностью вспоминаю наши енисейские дни и очень хочу, чтобы у тебя хватило бодрости и на себя, и на папу… В твоих письмах я слышу аромат морозного томского дня, вашей убогонькой комнатки, которая мне все равно что родина, наших грустных вечеров…
Домик за номером 9 в Колпашевском переулке, где мы на втором этаже снимали угол у Виленчиков, был деревянный, двухэтажный. Сам Вульф Виленчик был классным сапожником, делал заготовки на томской обувной фабрике; его жена Сима Минеевна вела хозяйство; у них было две дочери подросткового возраста – Сара и Мери. Люди они были хорошие, очень нам сочувствовали, но квартира была гораздо хуже, чем в Енисейске.
Это была маленькая комнатеночка чуть менее десяти метров. Скорее девять. Еще уголок был отнят голландской печью, которая топилась из нашей комнаты, но ею обогревалась и наша комната, и хозяйская. Холодно было всегда. Ширина комнаты – это была как раз длина кровати. Там стояла такая большая железная кровать с металлическими шарами еще. За ней оставался узкий-узкий проходик, где были вбиты в стену гвоздики: на них мы вешали наши с папой пальто. На ночь с папиной кровати снимали один матрас и клали его на пол, там я и спала. Так что папа, чтобы слезть с кровати, должен был непременно наступить на мою постель. Стол был один. Маленький такой столик, из которого, конечно, папа сразу сделал себе письменный стол. А как же нам есть, на чем? А ели мы так: ставили «на попа» чемодан, на него клали большой атлас «Азиатская часть России», купленный нами уже в Томске. Это и был наш стол: не только обеденный, но и мой вечерний, письменный. Вот и все наше убранство.
Я вела хозяйство, каждый день ходила в магазин или на рынок; в основном все опять покупали на толкучке. Папа, конечно, бегал больше по книжным магазинам, стосковавшись по ним в тюрьме и в Енисейске. Иногда мы вместе ходили. В Москве в это время, наоборот, какие-то книги продавались, отчего он ужасно страдал. У папы был очень хороший подбор пушкинианы: почти все первые издания. Это, кажется, пошло в первую очередь на продажу, как ни жалко ему было. Осталась только посмертная маска Пушкина, которая всегда висела у него в кабинете, она и теперь у меня. Но что поделать – надо было как-то существовать, пока наладится жизнь и в Москве, и в Томске. Папа писал друзьям: «Единственное, в чем я не вижу просвета: материальное положение семьи».
У него много переводов оставалось в Москве незавершенными. И основная работа по Шекспиру, и другие. Ну, потом, ввиду его ареста, все договоры кончились, все кончилось, пришлось кое-что продать из его бесценной библиотеки. Брат Сережа и я (когда вернулась) составляли списки книг, отправляли их папе, он указывал, что именно продать и как. И в общем, жили на это и в Сибири, и в Москве.