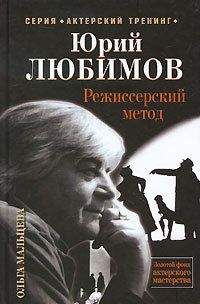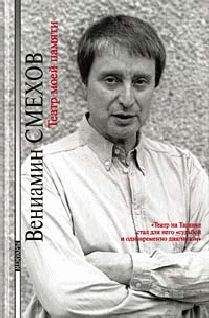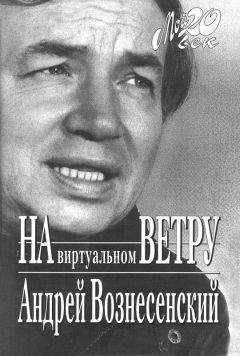Ознакомительная версия.
Р. Кречетова справедливо усматривает в особом способе общения на сцене Таганки важный содержательный уровень спектакля. Любимов, – пишет она, – «постоянно стремится к живым, неформальным коммуникациям с человеком и временем, осуществляемым через зрительный зал. (…) Актер на Таганке не замыкается в образе, он работает в подвижной, каждый момент спектакля определяемой точке, где сливаются, встретившись, образ – личность актера – их восприятие зрителем. (…) Любимов стремится к тому, чтобы его актер и его зритель соприкоснулись, чтобы смешалась в одно их живая энергия» [44, 139]. Понятно, что под образом здесь подразумевается образ персонажа. Подобный тип связи между рассматриваемыми элементами спектакля, по мнению Кречетовой, обнаружил и способность к определенного рода эволюции и в значительной мере обусловил возможности «зрелой» режиссуры Любимова.
«Непосредственные открытые отношения между залом и сценой, – замечает исследователь, – возникали уже в первых (…) спектаклях, но были прямолинейны и во многом традиционны. (…) Постепенно актеры научились на протяжении всего вечера сохранять с залом подвижный естественный контакт» [44, 140].
На найденную актерскую технику опиралась, в том числе, и «тихая» режиссура «Деревянных кон ей», спектакля, заставившего многих рецензентов сделать вывод о едва ли не измене Любимова основополагающим принципам его театра, как это было и после выхода спектакля «А зори здесь тихие…». Именно благодаря достигнутому за долгие годы работы и поисков, – верно замечает критик, – стали «возможны и это свободное общение героини Т. Жуковой сразу и с залом, и с пижмаками (жителями Пижмы. – О. М.), и с Милентьевной. И эта как будто сама собой разумеющаяся, а в действительности сложнейшая партитура первого акта, где прямые подначивающие обращения в зал, размежевывающие сцену и зрителей, поглощаются атмосферой общего разговора, будто и мы сидим вместе с актерами вот так же неподвижно вдоль стенок и не то слушаем, не то смотрим, не то вспоминаем историю Милентьевны» [44, 158].
Проницательный исследователь, Р. Кречетова совершенно точно отметила в обращениях в зал и момент размежевания. Общение с залом на сцене Таганки было всегда реальным, отчетливо ощутимым, но при этом одновременно строго сохранялась автономия зрителя и актера, даже, как ни странно, при «дерзких вторжениях в зал, хождении по ногам растерянных зрителей, ироническом рассматривании присутствующих, шпильках насчет московского вкуса и т. д. и т. п.» [44, 150] в «Товарищ, верь…».
Эти принципы общения с залом проявились с самых первых спектаклей. Наиболее внимательные зрители и тогда и позднее улавливали степень «открытости» театра, тем самым приближаясь к пониманию законов, по которым театр предлагал «общаться». Эту меру Н. Крымова, например, сумела определить в момент, когда участники спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» «смешались» со зрителем в фойе театра и потому близость с ним, зрителем, казалось, была предельной. «Среди актеров, поющих в фойе, – писала она, – (…) был морячок с гитарой. (В. Высоцкий – О. М.). Могло показаться, – знакомый тип «братишки», которому театр поручил установить «свойское» общение с залом. Но у тех, кто пробовал с ним перемигнуться, ничего не получалось. Этот морячок и вышел из толпы, и стоял в толпе, и пел для нее, до него можно было дотронуться рукой, – но любую фамильярность пресекало его лицо. Оно было замкнутым и каким-то яростным изнутри. Шутейные слова песни – необычно серьезное лицо. И гитару он держал так, что было ясно – ударь, не отдаст». «Скоморох, – добавляет Крымова, – всегда “сам по себе”, он и в толпе, и вне ее» [45, 99].
Товарищ, верь… Сцена из спектакля. Д. Щербаков – «за Кюхельбекера», С. Холмогоров – «за Дельвига»; В. Золотухин, И. Дыховичный, Л. Филатов – «за Пушкина».
Если мы прислушаемся к тому, что говорил на репетициях о сценическом общении режиссер, то поймем, что каждый актер должен был сам решать задачу, которая формулировалась постановщиком в довольно общем виде. Здесь не было требований прямых контактов с залом. К тому же задача ставилась как бы вновь на каждом новом спектакле и мучительно решалась даже в поздние годы, например, при постановке спектакля «Дом на набережной». (Всюду, где не указан источник, ссылаюсь на собственные записи репетиций – О. М.)
С одной стороны, режиссер напоминал В. Золотухину-Глебову: «Ты перед зрительным залом – не надо четвертую стену делать». Или А. Трофимову-Кунику: «Вы опять «в себя», (вовнутрь) играете. Вы так любите (играть). Вы не общаетесь с партнером». С другой стороны, он замечал М. Полицеймако-Юлии Михайловне: «Начали – деликатно и тонко чувствующая, а потом – слишком «через зал». Или – похожее – (Надо) «не впрямую с залом, а то, что внутри, в груди что-то сжалось». «Здесь, – обращался он к актерам, – надо не конкретно комментировать», а (представить) «размышление-горечь». «Как только (начинается) суд чести – сразу конец спектаклю», – пояснял режиссер Смехову-Глебову. Режиссер добивался того, чтобы «зрителя забрало. Надо, чтобы сам с собой зритель оставался, наедине с собой». И вместе с тем, настаивал: «мы – привычка есть – все время декларируем в публику. И не надо делать вид, что этого нет в нашем театре».
Вот это – «размышление-горечь», «в груди что-то сжалось», и при этом «в публику», но одновременно «не впрямую», хотя и непременно без четвертой стены – так сформулированное – требовалось для конкретного спектакля, а в сути своей оставалось постоянной особенностью сценического существования таганковских актеров.
Актер в особенной вселенной любимовского спектакля
Послушайте! Сцена из спектакля.
Постоянным было «я (…) прямо в глаза тебе смотрю, зритель. Я играю и смотрю тебе в глаза» [79, 73]. Эта мизансцена с крупным планом актера, смотрящего в зал, и «подает» актера, и по-своему обособляет его. Так возникает особенная вселенная любимовского спектакля, где каждый исполнитель в определенный момент оказывается в центре, где специфический способ общения героев через зал наделяет каждого своеобразным монологом, утверждая «центральность» художника-творца в мире, реализуя естественные эгоцентрические наклонности, сопутствующие художественному таланту и присущие всякому художнику.
Возникает вселенная, где каждый, попадая в режиссерский «луч», выступает «соло», где этот луч выявляет одновременно и связанность художника с миром, и извечное одиночество его, где противоречие между коллективным характером театрального искусства и индивидуализмом актера не только не пытаются преодолеть, но включают в действие, претворяя его в драматическую составляющую спектакля.
Ознакомительная версия.