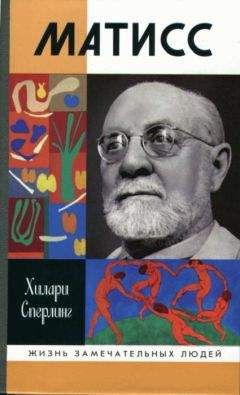Работ, позволявших считать сотрудничество с Матиссом выгодным делом, не видел пока никто. На публичные выставки художник по-прежнему давал картины, которые написал в Боэне или в середине 1890-х на Бель-Иле. Даже когда Воллар в конце концов устроил ему в июне 1904 года первую персональную выставку (целых сорок пять работ), львиная доля принадлежала пейзажам и серебристым натюрмортам в духе Шардена. За исключением нескольких экспериментальных этюдов, написанных пять лет назад во время «медового месяца на Корсике», картины были отобраны с расчетом, чтобы продемонстрировать серые, «столь привлекающие любителей», как выражался Воллар, матиссовские тона.
Выставка прошла удовлетворительно, можно даже сказать — успешно. Матисс, казалось, вернулся на путь, который сулил ему профессиональное признание и которым он двигался до тех пор, пока не решил сойти с дистанции, выставив в 1897 году «Десертный стол». Теперь этот самый «Десертный стол» купил Воллар — за свою обычную цену 200 франков — и мгновенно перепродал за полторы тысячи немецкому коллекционеру. Почувствовав себя немного увереннее, Матисс начал предлагать свои работы и другим дилерам (один даже согласился взять все имеющиеся у него в мастерской натюрморты, написанные в академической манере, по 400 франков за каждый), однако неожиданно понял, что не хочет да и не может идти на компромиссы. Как бы отчаянно семья ни нуждалась («мясник и булочник тянут ко мне руки в ожидании денег»), он систематически уничтожал — или заставлял это делать жену и дочь — любое полотно, в котором обнаруживал хотя бы малейший след банальности или конформизма. Маргерит вспоминала, как скрепя сердце счищала краску с картины за картиной, обреченных на уничтожение: отец боялся, что дрогнет и отступит, если на следующий день раздастся звонок торговца («Я как раз кончил один из натюрмортов. Он был ничуть не хуже предыдущего и очень на него похож. И все-таки я его уничтожил. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был мужественный шаг. С этого дня я веду отсчет моей независимости»). Это была еще более яростная борьба, нежели бунт против тирании академических догм 1896 года. Почувствовав, что зашел слишком далеко, Матисс понял, что ему необходимо восстановить душевное спокойствие.
В мае он написал Синьяку, и тот нашел для него рыбачью хижину в Сен-Тропезе — две комнаты наверху, две внизу; сдавалась она недорого, но для всей семьи была слишком тесна. 12 июля Матиссы уехали на юг, взяв с собой четырехлетнего Пьера, который нуждался в морском воздухе больше, чем Жан и Маргерит. «Наш друг Матисс тоже здесь, — писал Синьяк, который все еще считал вновь прибывшего не более чем хорошим луврским копиистом, — он очень приятный, умный человек и настоящий художник… Он рассказал мне о своем отвесе, chamber claire[66] и обо всех цветах, включая охру, белый и черный… составляющих его диапазон». Матисс приехал в Сен-Тропез в самую жару и долго бездельничал, будучи не в состоянии работать, — так случалось с ним всегда на новом месте и при новом освещении («Я не могу работать среди случайностей путешествия»). Он проклинал своего демона-хранителя («Ангела-хранителя у меня никогда не было», — уверял он), говоря, что живопись окончательно сведет его с ума, если он не бросит это занятие. Ко всему прочему, его угнетало одиночество: в деревне, населенной рыбаками и виноградарями, общаться, за исключением самого Синьяка, было не с кем.
Синьяк оказался настоящим хозяином Сен-Тропеза. Он открыл это место двенадцать лет назад и построил себе дом на самом верху, откуда открывался изумительный вид на море. Дом, который он назвал «Воронье гнездо» («La Hune»), окружал сад, напоминавший настоящие джунгли. Экспансивный, решительный, необычайно уверенный в себе и в том, что он делает, Синьяк был полной противоположностью Матиссу. Страстная, почти неистовая убежденность сделала его наиболее яростным среди всех неоимпрессионистов[67]. Годами он проповедовал «чистый цвет» — дивизионистское «евангелие импрессионистов» —. с истинно религиозным пылом. Он сумел обратить в свою веру даже Ван Гога и Писсарро, хотя и ненадолго (Ван Гог оказался ненадежным последователем, а отречение Писсарро спустя пять лет Синьяк счел настоящим предательством). Ничто так не радовало Синьяка, как успешная вербовка нового единомышленника. Он постоянно находился в поисках истинного гения искусства будущего, чью задачу сильно облегчил неоимпрессионизм: «Этому блистательному колористу необходимо только проявить себя: палитра для него уже готова».
Именно эта счастливая убежденность синьяковского манифеста «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» так взволновала Матисса пять лет назад («наконец-то живопись сведена к научной формуле!»). Теперь он воочию увидел, сколько энергии и эмоций сконцентрировано в этом девизе, и с готовностью последовал за Синьяком. В Сен-Тропезе Матисс впервые начал писать уличные сценки, крыши и лодки в порту в такой же свободной манере и в таких же ярких, звучных красках, как и Синьяк. Широта знаний Синьяка не могла не впечатлять, работа рядом с ним сулила блестящее будущее, но его безапелляционность и властность не могли не раздражать. Матисс написал крупными, импрессионистскими пятнами локального цвета «Ворота мастерской Синьяка». Еще он написал террасу с ведущими к морю ступеньками перед лодочным сараем Синьяка с сидящей на стуле Амели с шитьем в руках. «Терраса. Сен-Тропез» стала квинтэссенцией залитых солнечным светом матиссовских террас — тех террас, которых еще немало будет написано Матиссом за свою долгую жизнь. Синьяк жестоко раскритиковал картину, сочтя, что его «последователь» интерпретировал принципы дивизионизма слишком вольно. Из-за этого Матисс так разнервничался, что Амели поспешила увести мужа на прогулку, чтобы немного успокоить.
То, что случилось во время этой прогулки, явно было делом рук демона-хранителя Матисса. Когда Амели остановилась, чтобы напоить маленького Пьера, Анри достал альбом и сделал набросок жены и сына, сидящих на пляже у высокой сосны на фоне заката, переливающегося желтыми, оранжевыми и алыми красками. Позже он переработает этот эскиз в картину маслом, которую назовет «Залив в Сен-Тропезе». «С тех пор, как я здесь, я не написал ничего, кроме холста с закатом, который дал мне некоторое удовлетворение, — написал Матисс в сентябре Мангену. — И я до сих пор не могу поверить, что это я написал его; я принимался за эту тему десяток раз и, кажется, добился такого результата чисто случайно».
Конфликт с Синьяком из-за «Террасы» не прошел для Матисса бесследно. Он вдруг ощутил такую решимость «посылать всех к черту», что был готов, по его собственным словам, преодолеть один за другим все барьеры, стоявшие у него на пути. «Залив в Сен-Тропезе» лишь ускорил развязку. На вопрос, должен ли он выбрать путь Сезанна и работать с цветом спонтанно или руководствоваться четко сформулированными принципами Синьяка, Матисс ответил картиной «Роскошь, покой и наслаждение». Он написал ее осенью, после возвращения в Париж, основываясь непосредственно на «Заливе». Для критиков и коллег-художников «Luxe, Calme et Volupté» означала формальную присягу Матисса дивизионизму. Дивизионизм логически обосновал возможность избавиться от традиционной зависимости от сюжета и выражать только свои ощущения. Сам Синьяк этого до конца так и не добился, но подвел молодых художников к тому рубежу, откуда они могли устремиться — как это сделал летом 1905 года Матисс — в новый мир живописи.