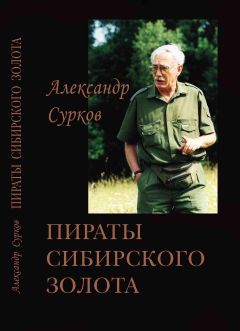«Митенька – годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен; рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него; потом также злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставили ни малейшего следа, и я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно замечается только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься кого-нибудь. Так я боялся нищих, боялся одного Волконского, который щипал меня; больше, кажется, никого), и тогда, когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василия, няню Исаевну, Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детского веселья, не помню о нем. Особенности его проявились и памятны мне уже в Казани, куда мы переехали в 40-м году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу я после, и учился хорошо, даже весьма усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определял по отношению к учению нас трех братьев так: Сергей – и хочет, и может; Дмитрий – хочет, но не может (это была неправда); и Лев – не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.
Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться (тоже после расскажу). Не только с Казани, но и еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, comme il faut. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, и то, что делал, доводил до пределов своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было!), и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как вылез из-под пристяжной, как коренная испугалась и т. п. Митенька же (мальчик лет 9), подошел к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели садить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить; на языке того времени значило – высечь.
В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко; помню, прекрасно перевел Шиллера «Der Jungling am Bache», но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз расшалился, и как девочки пришли в восторг от этого, и мне стало завидно, и я подумал, что это оттого, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекунши-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке дан был Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю: кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.
Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ довольно, силен не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет. Он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь, и он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни.
В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери, которую знал в Николеньке и которой я был совершенно лишен, – черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда до самого последнего времени не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совершенно не было. Никогда не помню на его лице той сдерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани только мы стали обращать на него внимание и то только потому, что тогда как мы с Сережей приписывали большое значение comme il faut, внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик: он подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука.
Особенность его первая проявилась во время первого говения. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви. Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на Страстной неделе вычитывал все евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство со священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи; никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас со своим серьезным лицом взял и передал.
Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор; но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое.