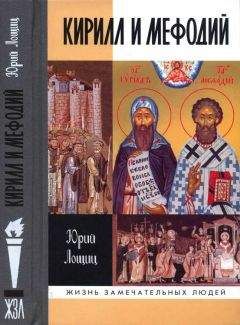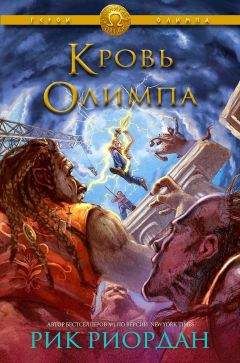Событие пришлось на праздник.
«На святый день» (значит, на самую Пасху?) к Константину, имеющему обыкновение всё раздавать нищим, ничего не оставляя на завтрашний день, обращается его слуга, раздосадованный постоянной расточительностью молодого господина: да у них у самих ничего в доме не осталось для трапезы по случаю праздника! Но Константин, напомнив слуге подробности исхода иудеев из Египта, отвечает: «Напитавший израильтян в пустыне пошлёт и нам пищу». Более того, велит слуге идти на улицу и позвать хотя бы пятерых нищих.
Когда же настаёт обеденный час, некий посетитель вдруг вносит в дом Философа полное беремя всяческой снеди да ещё выкладывает десять золотых монет. И Константин «Богу хвалу возда о всех сих».
Вот она — нежданная, нечаемая, не поддающаяся предварительному вычислению помощь. Благодатная помощь. Событие — из тех малых чудес, которые происходили и происходят в разные века и в разных пределах земли так часто, так изобильно, что люди уже как-то привыкли их не замечать или почти не замечать. Не для того ли такие события неустанно повторяются, чтобы вразумлять тех, кто непредсказуемые, сверхурочные дары жизни считает слепым случаем, капризным стечением обстоятельств?
Впрочем, и этот житийный эпизод в наши гиперкритические времена был подвергнут подозрению и отбраковке как «общее» (читай, вторичное, заимствованное) «место» древней агиографической письменности.
Как бы ни судили-рядили гиперкритики, обстановка происшествия дышит достоверностью. Уже потому хотя бы, что уединение и безмолвие, найти которые Философ понадеялся в пределах мегаполиса, как видим, оказались весьма недостаточными: ворчливый слуга, нищие, нежданный, но вряд ли совершенно незнакомый посетитель… Так и слышишь в отдалении (или даже вблизи) рокот, гул, «житейский шум трескучий», чадное дыхание громадного города. Где уж тут сосредоточиться по-настоящему!
Житие не уточняет сроков, но и так видно, что после Багдада Константин пробыл в столице лишь самое непродолжительное время. Сразу же за историей с нищими следует сообщение о его отбытии на Малый Олимп. То есть на ту самую гору, где, напомним, его старший брат какое-то продолжительное время уже подвизается в монастыре.
Признаться, скорость, с которой житийная канва побуждает нас переноситься с места на место, иногда озадачивает. Чем объяснить полное отсутствие подоплёк ещё одного поступка Философа? Как, почему происходит это событие? Неужели нехватка более насыщенного уединения — достаточный повод, чтобы Философу снова спешно собираться в путь?
Между тем подсказки как будто сами спешат навстречу.
В дни и часы, когда Константин ещё живёт в городе, вдруг врывается в его жилище весть, способная если не оцепенить, то озадачить и человека, куда более, чем он, привычного к не-предсказуемостям придворной жизни.
Убит Феоктист!
Вскоре слух подтверждается. Нет, не какой-то иной человек, носящий то же самое имя: убит Феоктист, первый при дворе министр!
Вдруг не стало того самого всемогущего, заматеревшего в своей сухой жилистой старости логофета Феоктиста, которому братья, и Мефодий, а затем и Константин, как ни суди, очень многим обязаны в жизни. И вытащил их в Константинополь из Фессалоник, и учиться пристроил, и о карьере старшего и младшего изрядно хлопотал. Пусть и не всегда в соответствии с их представлениями о своём будущем.
Как бы сам Константин временами ни противился покровительству, которое для своих особых целей оказывал ему старый придворный игрок, покровительство это в итоге оказывалось не слишком обременительным для молодого человека. Его узнали при дворе, к нему, кажется, благоволит сама императрица Феодора, мать-регентша василевса Михаила. И поездка в Багдад — не по согласной ли воле и Феоктиста, и Феодоры? Словом, он слывёт в столице едва ли не любимчиком логофета, а это теперь, после известия об убийстве, может сказаться самым нежданным образом на его дальнейшем здесь пребывании.
Дело не только в их личных отношениях. Злочиние над Феоктистом учинено не уличным сбродом. Как почти тут же выясняется, в деле напрямую замешан сам доместик Варда, родной брат императрицы Феодоры. Этот Варда, с его тяжкой хваткой, уже не первый год набирает вес при дворе. Кто знает, каковы будут его дальнейшие шаги?
Варда спешит, очень спешит. Не успели умолкнуть пересуды по поводу смерти Феоктиста, а он уже и сестру родную принуждает отказаться от регентства: её сын вполне-де возмужал для того, чтобы править единолично. И Феодора, ещё недавно такая решительная в противодействиях мощной партии иконоборцев, смиряется. Чего не сделаешь ради блага единственного сына!
Но не проходит и года после расправы над Феоктистом, как Феодору насильно постригают в монахини, отвозят в монастырь. И не одну выдворяют, а вместе с четырьмя незамужними дочерьми — Фёклой, Анастасией, Анной и Пульхерией. Впрочем, так издавна заведено при дворе. Раньше или позже, но неизменно производится жёсткая вычистка тенистых палат и покоев, предназначенных для августейших вдов и девиц. Можно подумать, будто именно за их занавесями то и дело сплетаются нити новых заговоров. Какое, однако, оскорбительное, незаслуженное изгнание!
Кто-то ведь мог пустить слух по городу, что и отъезд Константина на Малый Олимп — тоже своего рода ссылка. Или бегство, упреждающее ссылку[2].
Да, чисто придворная подоплёка срочного отбытия Философа в монастырь к брату Мефодию вполне допустима, даже если он, отъезжая, действовал лишь по своей воле. Даже если никакие предчувствия его не навещали, никакие страхи не обуревали, а просто не захотелось дольше жить в городе, где такое случается снова и снова.
Приходится просто смириться с тем, что в «Житии Кирилла» какие-либо бытовые обоснования отъезда отсутствуют. Куда труднее смириться с очередной скороговоркой агиографов: пять следующих лет жизни Философа (с 856-го по 861-й) умещены ими в одну-единственную фразу:
«В Олимп же шед к Мефодию брату своему, нанят жити и молитву творити безпрестани к Богу, токмо книгами беседуя».
О целых пяти годах и без того короткой его жизни, согласимся, сообщено огорчительно мало. Это ведь не пора детства или отрочества, когда хрупкий солунский самородок то и дело озадачивал взрослых стремительностью своего духовного и умственного созревания. И не время его первых ярких общественных ристаний, когда без страха устремлялся он в самую гущу полемических стычек, крепко и честно стоял за веру Христову, невзирая на лица противников, изощрённых в словопрениях. Теперь Константин — муж искусный в духовных бранях, истинный философ православного склада. И теперь перед нами — самый цвет его жизни. Он прибудет в монастырь тридцати лет от роду. Навсегда уедет отсюда — тридцатипятилетним. И жить ему после отъезда останется менее девяти лет.