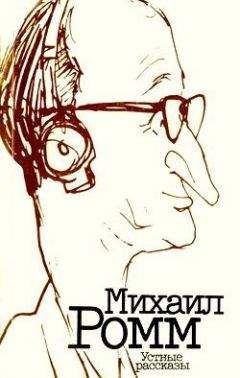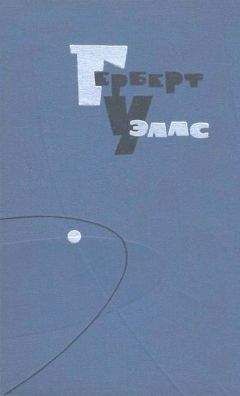А тут – подох!
Ну, объявления в газетах, траурные речи. На улицах миллион народа. Масса погибших в давке – все это знают. Растерянная Наташка. В доме растерянность. Только отчетливо помню: сознанием я понимал – слава богу, может быть, будет легче! Может быть, уцелеем.
А сердце как-то не мирилось, потому что в то же время я сердцем как-то верил в Сталина. Помню, Леля меня ночью спрашивает, глаза широко открыты:
– Роммочка, что же с нами будет?
Я ей говорю:
– Леля, хуже не будет… хуже не будет. – Говорю, и сам не верю.
Вот в этом странном состоянии, в котором многие тогда пребывали, решил я пойти к одному знакомому – хорошему человеку, большому, умному человеку. Жил он в Доме правительства. Решил просто пойти, поговорить с ним. Незадолго до этого Леля у него была, еще до смерти Сталина, рассказывала, что со мной творится, как меня травят, что происходит, и говорит ему:
– Может быть, к Берии пойти?
Он ей:
– Упаси вас бог появляться у этого человека, упаси вас бог!
Пошел я к нему, говорю ему: так и так, мол. Имя-отчество не хочу упоминать, он меня ведь не уполномочил рассказывать-то.
– Что будет?
Он говорит:
– Давайте пойдем на кухню, там можно спокойнее говорить.
Повел меня на кухню, пустил воду из крана, зажег четыре конфорки газовые и говорит:
– Расскажу я вам одну историю. Несколько лет назад я получил высокое назначение. Получил от Сталина. Поручено мне было составить доклад по одному очень важному делу.
(Но я тоже этого дела излагать не буду, потому что сразу будет понятно, к кому это я пришел.)
– Доложить должен был на Политбюро. Вот прихожу, являюсь на Политбюро первый раз в жизни. Сидят все члены Политбюро, Сталин во главе. Ну, тут Маленков, Каганович, Берия, Ворошилов, Молотов, – все. Докладываю. Докладываю объективно: дело крупное, потребует огромных капиталовложений, которые должны пойти за счет других отраслей народного хозяйства. Поэтому, естественно, надо было подумать, идти на него или не идти. Ну, я доложил, выслушали все, первое слово берет Ворошилов, говорит: «А зачем нам это? Огромные капиталовложения, придется сократить другие, очень важные отрасли, в том числе вооружение армии, развитие промышленности, строительство. А эффект какой? Не нужно нам это, в общем, пока что». И пока Ворошилов говорил, Сталин чуть-чуть нахмурился.
Это другие заметили, а Ворошилов не заметил. Но другие заметили, и тут же взял слово Берия. И горячо поддержал это новое, очень дорогое дело. За ним поддержал еще кто-то, еще кто-то, Каганович, Маленков, Булганин… Ну, Ворошилов, видно, несообразительный, вторично просит слово и говорит: «Я все-таки не понимаю, ну зачем же это…»
И в это время Сталин так легонечко ударяет по столу пальцами, и все замолкают. И Сталин говорит, негромко так: «Я не понимаю, почему товарищ Ворошилов с таким упорством отстаивает предложение, которое явно клонит к уменьшению военной мощи Советского Союза. Что это предложение клонит к тому, чтобы уменьшить нашу мощь, это мы все понимаем. Мы еще не понимаем причин, по которым товарищ Ворошилов отстаивает' его и, кстати, не в первый раз отстаивает подобную точку зрения. Но рано или поздно мы это поймем».
Сказал и замолчал. И стало так тихо, что слышно было, как тикают часы на руках у присутствующих. И даже как будто бы слышно, как сердце бьется. Ворошилов сидит белый, на лбу у него выступает пот, начинает стекать вниз. Никто на него не смотрит, только Берия смотрит, не отрывая взгляда.
А я, – говорит мне рассказчик, – сижу, затаив дыхание, смотрю то на Ворошилова, то на Берию. Берия пальцами перебирает. На Сталина не решаюсь даже взглянуть. И вдруг, после этой долгой, томительной паузы, которая длилась, может быть, несколько минут – они показались огромным временем, и все тикали часы на руках, – Сталин так говорит негромко: «Ну что ж, на сегодня довольно. Давайте перейдем в зал, посмотрим картину».
Все встали, пошли в зал. Раздались голоса. Переговариваются все между собой. Ворошилов один, никто к нему не подходит. Все пошли в зал, и я пошел в зал.
Ну, вошли мы в зал. В зале столики стоят, около каждого столика три стула – три, потому что одна сторона обращена к экрану, там стула нет… Вино на столе, фруктовая вода, лимонад, фрукты, конфеты, что ли. Все сели за столики – вдвоем, втроем. Народу-то немного, три столика заняли. А Ворошилов один сел, к нему никто не подсел. Ну, я человек новый, незнакомый, – говорит мне рассказчик, – тоже сел один, за отдельный столик, думаю: что же он нам покажет сейчас? Маневры американского флота или какую-нибудь политическую хронику? Что?
А его в зале нет.
Погас свет, зажегся экран. Господи, владыка! «Огни большого города» Чарли Чаплина! Ну, очевидно, там все привыкли. Дело в том, что Сталин очень любил несколько картин, в том числе «Огни большого города», «Чапаева», «Волгу-Волгу» и «Ленин в Октябре». Да, еще «Большой вальс». И, оказывается, члены Политбюро всегда знали, что в любой момент им могут показать любую из этих картин, и надо смотреть. Ничего тут не сделаешь – смотри. Хозяин хочет сегодня смотреть «Волгу-Волгу» – смотри «Волгу-Волгу», «Большой вальс» – смотри «Большой вальс». Но вот на этот раз решил смотреть почему-то «Огни большого города».
Я сижу в полном недоумении: начались «Огни большого города», а его все нет. Вот уже прошел первый эпизод первой части. Впоследствии выяснил, он что-то недолюбливал именно этот эпизод, где памятник открывается и Чаплин там на памятнике спит. Ну, эпизод кончился, входит Сталин. Огляделся, подошел к моему столику, сел. Да, прежде чем сел, спросил: «Разрешите, пожалуйста. Я вам не помешаю?» – «Да что вы, товарищ Сталин, садитесь пожалуйста». Сел. «Что же вы ничего не пьете, не кушаете? Вы не стесняйтесь, будьте как дома, вы – свой человек». Любезно так. Я говорю: «Спасибо, благодарю вас». Он стал спрашивать меня что-то. Потом поглядывает все на экран. И я поглядываю на экран. Идут «Огни большого города». Все потихоньку переговариваются, но очень негромко, очень почтительно, так сказать, тихо. И Сталин говорит со мной иногда, иногда смотрит на экран.
В последней части, когда уже Чаплин выходит из тюрьмы, идет по улице оборванный, грязный, порванные штаны у него, мальчишки его дразнят, смотрю: что такое? Лезет Сталин в карман, вынимает платок. Кончиком платка вытирает глаз.
Ну, тут девушка, бывшая слепая, продает цветы. Чаплин ее узнает, она его – нет. Вдруг Сталин встал, отошел в угол, встал там в углу, сморкается и бросает косые взгляды на экран.
Потом узнала его девушка, реплика идет: «Это вы?» – «Да, это я». И Сталин отчетливо всхлипнул.
Кончилась картина, все встают, ждут. Сталин поворачивается, сморкается, вытирает глаза. Взгляд смягченный, умиленный. Подходит к Ворошилову: «Клим, дорогой, что-то ты плохо выглядишь. Наверное, работаешь много, не отдыхаешь». – «Да, – говорит Ворошилов, не понимая еще ничего, – работаю, не отдыхаю». – «Лаврентий, – говорит Сталин, подзывает Берию, кладет Ворошилову на плечо руку, – Лаврентий, о таких людях заботиться надо. Он может ошибаться, но это наш человек. Ты это запомни, Лаврентий».