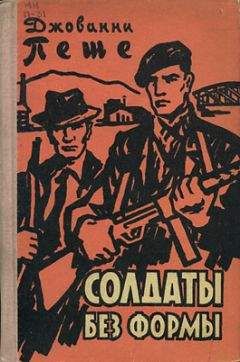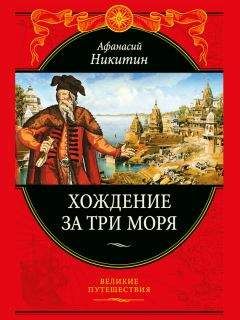Рафаэль де Урбино не потряс испанца так, как он этого ожидал. Если у великого Микеланджело в картине везде звучали сила и мужество, то Рафаэлю больше подходил эпитет «нежный». Рисунок его привлекал чистотою линий, своею гармоничностью и мелодичностью. Это был образец тонкой филигранной работы, где материальное перерастает в духовное. Но нашему маэстро Микеланджело был ближе.
Ватикан утомлял дона Диего. Обилие картин, обстановка беспрерывной настороженности. Художник стал подумывать над тем, как ему избежать томящего гостеприимства.
Вечерами дон Диего садился за письма. Его письма на родину были повестью о чарах итальянской земли, о людях, о том, что ему довелось пережить и увидеть. Он писал о прекрасных мастерах Фра Анджелико, Перуджино, Боттичелли, восхищаясь простодушием их работ. Художники академического направления не вызывали у испанского маэстро ничего, кроме профессионального интереса. Их слава, равно как и полотна, не произвела на него впечатления. К тому времени особенно популярными художниками в Риме были братья Караччи и Гвидо Рени, которым все старались подражать. Но Веласкес, еще в Севилье привыкший писать жизнь такою, какова она была, оставался равнодушным к надуманной красоте их полотен.
— Хуан!
Пареха даже вздрогнул. Так необычно громко прозвучало в тишине этих молчаливых стен его имя, — Мы переезжаем. Я попросил графа Монтеррей, нашего посла, исходатайствовать у флорентийского герцога Медичи разрешение пожить на его знаменитой вилле в Риме. Сегодня вернулся курьер. Герцог шлет нам свое разрешение.
Еще в первый день приезда, любуясь кружевом Сабинских и Албанских гор, Веласкес был очарован вершиной Тринидад, над которой красовались две по–девичьи стройные колокольни крохотных церквушек. Побывал он и возле белоснежных зданий виллы Медичи, откуда открывался чудесный вид на весь Рим.
В Мадриде слышал он от художников, побывавших в Риме, о вилле, ставшей местом, куда стремился попасть каждый маэстро, приехавший в Вечный город. Для многих великих живописцев она становилась своеобразным символом единения искусства.
Веласкес шел по хрустящему гравию сада. Каким прекрасным был этот сад, со старинными могучими дубами, отливавшими бронзой в лучах заходящего солнца! Сердце художника сладко защемило. Так бывало с ним всегда, как только он погружался в это дивное состояние близости с природой. Он чувствовал тогда себя частичкой загадочной Великой Вечности.
Укромный уголок парка с забитым досками проходом, стройные высокие кипарисы взволновали его необыкновенно. Уголок этот, созданный прекраснейшим из художников — природой, — сам просился на полотно. Маэстро уже представлял себе, как выглядел бы этот пейзаж в раме. Небольшой по размерам, он должен быть обязательно монументальным, чтобы давать ощущение силы и величия природы. Раньше, до этого, ему никогда так не хотелось писать натуру. Он шел дальше, унося в сердце навсегда оставшийся там пейзаж.
Сад погружался в тихие таинственные сумерки, казалось, вот там за поворотом аллеи сейчас вздрогнет пиния, качнется померанец и, чуть касаясь ногами земли, выйдет женщина с головой древней богини. Она, никого и ничего не замечая, пройдет белой дымкой сквозь грусть вечерней синевы по лестнице, ведущей на вершину холма. У ее ног расстелится Рим, громадный старинный город. Художник вздрогнул. Чья–то рука коснулась его плеча.
— Маэстро, — в голосе Хуана чувствовалась озабоченность, — я зову вас уже несколько раз. Пойдемте в комнаты.
Огромная столовая виллы производила впечатление галереи. Там висели портреты всех великих художников и артистов, которые когда–либо побывали здесь. Любой королевский дворец мог бы позавидовать громкости их имен и непреходящей их славе. Теперь художник понял, откуда у парка столько грусти: там навеки покоилась память о тех, кто хоть раз ступал по тенистым аллеям. Природа сделала из него своеобразный храм памяти о людях, чьи руки столько сделали, воспевая ее красоту. В библиотеке виллы — огромной зале с громадными окнами — зажгли свечи. Их свет, вздрагивая от любого шороха, метался по книжным полкам. Здесь, куда ни обратишь взгляд, все было окружено памятниками прошлых времен. Античные скульптуры безымянных талантливых мастеров так сжились с виллой, с окружающим ее садом, что стали их органической частью. Так жили они, созданные в разные эпохи, объединенные человеком в единое, имя которому — красота.
Здесь, в тиши виллы Медичи, маэстро начал писать свой первый автопортрет[37].
Пользуясь свободой в своих действиях» в выборе моделей и сюжетов для полотен, Веласкес все же не забывал, что он художник его величества и гранд. И в Италии положение обязывало художника считаться с внутренними законами испанского двора: раз по происхождению ты дворянин, значит в любом случае жизни ты обязан им оставаться, даже на портрете, Хуан, глядя, как работал маэстро, невольно мысленно переносился в галерею портретов художников, расположенную в столовой виллы. Как отличался автопортрет его маэстро от портретов замечательных мастеров кисти! Автопортрет Веласкеса ничем не выдавал в нем художника. На полотне перед Хуаном был скорее гранд, одетый во все черное, со шпагой на боку, в парадных перчатках. Казалось, это портрет дворянина, случайно попавший в галерею художников.
Вот почему много лет спустя, в 1860 году (в связи с двухсотлетием со дня смерти Веласкеса), следуя традициям, в Париже перед Лувром дворянину–художнику воздвигли памятник, который изображал его рыцарем на коне.
Хуан, у которого было гораздо больше свободного времени, чем у маэстро, рассказывал дону Диего о городских новостях, о всем виденном в Риме. Иногда художник, слушая рассказ, прерывал его на полуслове: он учил Хуана «видеть», как некогда делал это отец Саласар.
Однажды ночью, гуляя с Хуаном в сопровождении охраны, присланной кардиналом Барберини, дон Диего стал свидетелем необычайных похорон. Погребение в Италии — стране воздуха и света, где вся природа подчинена великому лозунгу «жить!» — происходит ночью. Несмотря на то, что все вокруг звало к жизни, люди успевали вырасти, состариться и умереть. Но им, детям природы, словно было неудобно огорчать свою добрую мать, потому они старались уйти из жизни незаметно. И в часы, когда она сладко спала, люди тайком хоронили своих уставших от жизненных дорог собратьев. Пустынной улицей не шла, а проносилась процессия. Крест, хоругви, гроб мчались спящей улицей без единого шороха. Смерть, которой не принято кланяться в этой стране солнечного света, спешила побыстрее, до рассвета забрать свою жертву.