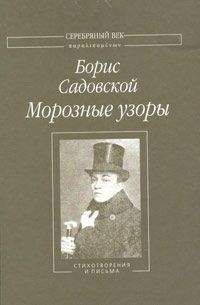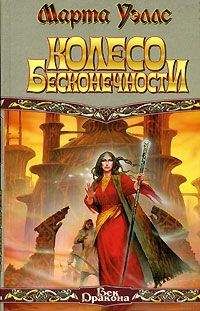Ознакомительная версия.
ОКТЯБРЬ 1905
Безотрадный дикий вой,
Зов мучительно-тревожный,
Непонятный, невозможный
Грустно стонет над Москвой.
Это люди или псы?
Это лай или рыданья?
В безмятежном ожиданье
Тихо шепчутся часы.
Срок, назначенный судьбой,
Пропылал в осеннем мраке.
Воют чуткие собаки.
Чу! часов зловещий бой.
К тополям плывут белёсые туманы,
По полям спешат смоленские уланы.
Впереди начальники седые,
Позади солдатики младые.
Проскакали свежими бороздами,
Распугали ворон с дроздами.
За околицу выехали к речке.
Видят: баба пригорюнилась на крылечке.
Нет ли с вами моего Степана,
Удалого смоленского улана?
Отвечал ей старший полковник:
Твой Степан давно уж покойник.
Уланы деревню проскакали.
Туманы развеялись и пропали.
Вдоль полей помчались эскадроны,
С тополей на них кричали вороны.
Заблеяли у околицы овечки,
А баба всё молится на крылечке.
Венец терновый на холодном лбу
(Возложен на нее с давнишних пор он),
Застыл позор во взоре помертвелом.
Россия мертвая в покрове белом!
Над телом кружится железный ворон,
И черви жадные кишат в гробу.
Всё умерло и стихло навсегда.
Предания, заветы, честь и слава
Искажены усмешкою двуличной,
Завыл отходную гудок фабричный,
Спешит червей неистовая лава,
И празднуют поминки города.
В родных усадьбах плачутся сычи,
По чердакам среди разбитых стекол
Справляет ветер злые панихиды,
В пустых полях несется плач обиды,
Подстреленный раскинул крылья сокол,
Лишь черви радостно шуршат в ночи.
Ликуйте, гады! Рвите прочь с костей
Покорное, измученное тело!
Ты, ворон зарубежный, выклюй смело
Глаза поблекшие! Валите груды
Сырой земли, могильщики-Иуды,
Встречайте песнями ладьи гостей.
И алчные несутся чужаки
Торжествовать над свежею могилой,
Где погребен последний призрак сказки.
Отпеты песни, почернели краски,
Склонился Дух пред золотою силой,
И выпал жезл из царственной руки.
Екатерину пел Державин
И Александра – Карамзин,
Стихами Пушкина был славен
Безумца Павла грозный сын.
И в годы, пышные расцветом
Самодержавных олеандр,
Воспеты Тютчевым и Фетом
Второй и Третий Александр.
Лишь пред тобой немели лиры
И замирал хвалебный строй,
Невольник трона, раб порфиры,
Несчастный Николай Второй!
Дням, что Богом были скрыты,
Просиять пришла пора.
Опусти свои копыты,
Гордый конь Петра!
Царь над вещей крутизною
Устремлял в просторы взгляд
И указывал рукою
Прямо на Царьград.
Мчаться некуда нам ныне:
За обильные поля
Отдала простор пустыни
Русская земля.
Посреди стальных заводов
И фабричных городов,
Мимо сёл и огородов
Бродит конь Петров.
Просит он овса и пойла,
Но не видно седока,
И чужой уводит в стойло
Дряхлого конька.
Над Всероссийскою державой
По воле Бога много лет
Шумя парил орел двуглавый,
Носитель мощи и побед.
Как жутко было с ним вперяться
Времен в загадочную мглу!
Как было радостно вверяться
Ширококрылому орлу!
Увы! Для русского Мессии
Встает Иудина заря:
То Царь ли предал честь России,
Россия ль предала Царя?
Или глаголы Даниила
В веках растаяли, как дым,
Иль солнце бег остановило,
Иль стал Женевой Третий Рим?
Братаясь радостно с врагами,
Забыв завоеваний ширь,
В грязи свое волочит знамя
Тысячелетний богатырь.
Британский лев и галльский петел
Его приветствуют, смеясь.
Пусть день взойдет, могуч и светел:
Ему не свеять эту грязь.
Россия, где ж твоя награда,
Где рай обетованных мест:
Олегов щит у стен Царьграда,
Славянский на Софии крест?
Когда-то венчанное славой,
Померкло гордое чело.
И опустил орел двуглавый
Свое разбитое крыло.
Из книги «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»
(1922)
Я помню Наденьку Орлову
Совсем ребенком. Налегке,
В полусапожках и в платке,
Она, смеясь, гнала корову.
Уж на вечернюю дуброву
Ложился сумрак. На реке
Синел туман, и в челноке
Рыбак спешил к ночному лову
С вязанкой удочек в руке.
В глухом уездном городке
Ее отец, седой урядник,
Вдовец, из отставных солдат,
Имел свой дом и палисадник.
Еще у Наденьки был брат,
Телеграфист, уездный фат,
Велосипеда бойкий всадник.
То было двадцать лет назад.
Подростком Наденька Орлова
С кухаркой старою вдвоем
Вела хозяйство. День за днем
Струился чинно и сурово.
Дышал уютом тихий дом.
Щегленок в клетке под окном.
Диван, два кресла, стол дубовый
И медный самовар на нем
С блестящей утварью столовой.
По воскресеньям иногда
Сходились гости к самовару
И пели хором. Брат тогда,
Звеня, настраивал гитару,
И было весело всегда.
Письмо уряднику прислала
Сестра. В Москве она жила
И экономкою была
У пожилого генерала.
Она племянницу звала
И вывесть в люди обещала.
Так Наденька москвичкой стала
И золотые купола
С веселым страхом увидала.
Семь лет промчались как стрела.
Жизнь беззаботная текла,
Как будто смертный час отсрочен.
Старик Орлов был озабочен
И грустен. Под Мукденом пал
Любимец сын. Отец узнал,
Что мир ненужен и непрочен.
Он призадумываться стал,
Слег, расхворался и не встал.
Над пестрой древнею Москвой
Садилось солнце. Вдоль бульваров,
Шумя, катился ток живой.
Десятки тысяч самоваров
Кипели в тысячах домов,
Гудели окна кабаков,
Пылили легкие пролетки.
В зоологическом саду
Рычали львы из-за решетки,
Плескались весла на пруду,
И Наденька, привстав на лодке,
На замерцавшую звезду
Глядела робко и стыдливо.
Ее спокойный кавалер
На весла налегал лениво
С небрежной строгостью манер.
Никто бы не узнал теперь
Былой урядниковой дочки,
Мещанки в ситцевом платочке,
Что бегала по слободе,
Звала телят и кур кормила,
В красавице изящно-милой,
Летящей взорами к звезде.
Кто ж кавалер ее? Везде
Известен Иоанн Аскетов,
Знаток стиха, король поэтов,
Замоскворецкий де-Гурмон.
На самом деле звался он
Иван Егорыч Отшвырёнков
И с малолетства был силен
В стихосложенье. Солдатёнков
Покойный мальчика крестил,
Учиться в школу поместил
И издал том его сонетов.
Писатель Наденьку встречал
В полусемейном тесном круге
У гимназической подруги.
Сперва се не замечал,
Потом заметил и влюбился.
Стемнело. Вечер закатился,
Огни погасли над прудом.
По Пресне Надя шла с поэтом.
Куда ж они? В семейный дом
Промчаться в танце молодом,
Блеснуть перед московским светом
Иль в театральное фойе?
Кто, сидя в лифте на скамье,
Многоэтажный дом огромный
В корзине пролетал подъемной,
Тот видел надпись: «Рекамье».
Здесь перед дверью ярко-новой
Аскетов с Наденькой Орловой
Из лифта вышли. Дверь ключом
Американским отворили;
В передней тихо, как в могиле.
Вздохнула Наденька. О чем?
Фонарь японский в кабинете,
Душистый кофей с калачом,
Коньяк, ликеры. В полусвете
Дышала папироской там
Не Рекамье – не бойтесь, дети, –
А просто Тёркина madame,
Одна из моложавых дам
В румянах, буклях и корсете.
Аскетов с Тёркиной дружил.
Покойный муж ее служил
И сочинил два-три романа.
Он громкой славы не нажил
И не сумел набить кармана.
Но Теркиной сдаваться рано:
Она открыла «институт
Для исправленья переносиц»
И скромно поселилась тут
Под кличкой «Рекамье-фон-Косиц».
Так до сих пор ее зовут.
Любить неловко без косметик
В наш век. Давно известно нам,
Что дьявол первый был эстетик.
Об этом знал еще Адам.
Аскетов с Надей ночевали
У Рекамье. Поутру встали
И пили чай, не торопясь.
Все трое весело болтали.
Шутила Наденька, смеясь.
На улицах стояла грязь,
Бульвары под дождем блистали,
И статуя на пьедестале
Покорно мокла, наклонясь.
К себе вернувшись, не застала
Домашних Наденька. Прошла
В чуланчик, где она жила
Бок о бок с теткой, постояла,
Потом в столе у генерала
Револьвер новенький нашла,
К виску холодный ствол прижала –
Короткий треск – и умерла.
Ее с почетом схоронили.
Мы все на отпеванье были
И на серебряный покров
Сложили несколько венков.
В слезах, под черным покрывалом,
Стояла тетка с генералом,
Семь гимназических подруг
Образовали полукруг.
За ними встал король поэтов,
Известный Иоанн Аскетов
В красе сложенных гордо рук
(Креститься он считал излишним
И ниже сана своего).
Неподалеку от него,
Румяная, подобно вишням,
Кусала губки Рекамье,
Теснилась к Надиной семье,
Платочек розовый терзала
И чуть на гроб не залезала.
При ней вертелся репортер.
Я слушал погребальный хор,
Я видел Наденьку Орлову:
В полусапожках и платке
Она, смеясь, гнала корову
В глухом уездном городке.
Ознакомительная версия.