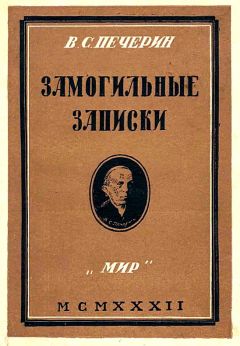Ознакомительная версия.
Поразительный документ, демонстрирующий полное порабощение сознания романтическими представлениями, создает тридцатилетний Печерин после отъезда из России. Печерин не только не выполнил условия договора, по которому обязывался, вернувшись из Берлина, прослужить не менее двенадцати лет по учебной части, за что против него было возбуждено судебное преследование, он нарушил закон, запрещавший подданному Российской империи селиться за границей без формального разрешения – эмиграция с давних времен считалась в России государственным преступлением. Кроме того, он подвел лично попечителя Московского учебного округа графа С. Г. Строганова, возлагавшего большие надежды на программу усовершенствования молодой русской профессуры за границей, поставленную под угрозу «невозвращенцем» Печериным. Строганов, по выражению одного из выпускников Московского университета, был «ниже по уму, но гораздо выше по характеру» Уварова (Чичерин 1989: 373). Он писал Печерину, убеждая его выполнить требования долга и чести, гарантировал ему финансовую помощь для возвращения, пытался выяснить, какие причины могли его толкнуть на такой решительный шаг, как отказ от родины. В ответ 23 марта 1837 года, то есть через девять месяцев жизни за границей, Печерин пишет письмо, по форме и выраженным мыслям невообразимое в качестве обращения к какому бы то ни было официальному лицу (РО: 172–174)[40]. Это совсем не письмо, это страстный монолог, созданный по всем правилам романтического искусства, это, в сущности, конспект будущих «Замогильных записок». В нем уже намечены темы, которые Печерин через тридцать лет станет развивать в своих автобиографических заметках, как если бы пережитый за эти годы опыт никак не сказался на его понятиях и ценностях.
Поблагодарив графа Строганова за добрые намерения, Печерин сразу заявляет, что вернуться не может, потому что его поступок есть следствие непостижимого рока, управляющего его судьбой почти с самого детства: «Повинуюсь необоримому влечению таинственной силы, толкающей меня к неизвестной цели, которая виднеется мне в будущности туманной, сомнительной, но прелестной, но сияющей блеском всех земных величий». Неизвестная цель, «сияющая блеском всех земных величий», не может быть достигнута в стране, при входе в которую следует «забыть надежду навсегда». Печерин упрекает Строганова (имея в виду правительство, пославшее его за границу) за то, что пережитый им заграничный опыт заставил его по-новому увидеть своих соплеменников. Он старается продемонстрировать логику развития своей ненависти ко всему, стоящему на пути к осуществлению его таинственного призвания:
Когда я увидел эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без Бога, живущих лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные; этих людей, на челе которых напрасно было бы искать отпечатка их создателя; когда я увидел все это, я погиб! Я видел себя обреченным на то, чтобы провести с этими людьми всю мою жизнь.
В Берлине 1833 года презрение к толпе его возвышало в собственных глазах, теперь он видит опасность стать ее частью. Тогда он писал: «Вы не можете себе представить, какая это восхитительная мысль, видеть в населении целого города нечто низшее, подчиненное себе; видеть в себе существо высшее, совершенно чуждое всех мелких страстей, движущих этим народонаселением» (Гершензон 2000: 410).
Схожие мысли будет выражать лермонтовский Печорин, многие высказывания которого печеринское письмо почти дублирует. В образе Печорина Лермонтов показал сложную работу эгоизма как коренной действующей силы романтического сознания. Печорин описывает природу собственного благородного честолюбия, весьма сходного с мечтами его наивного почти однофамильца.
Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, – размышляет Печорин, – но оно проявляется в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? (…) А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви (Лермонтов VI: 294).
Романтический герой может утверждать свою личностную ценность только противопоставлением себя и сокровищ своей души низкой толпе, той посредственности, власти которой над собой он больше всего боится. Словно не задумываясь о том, к кому обращена его филиппика, не видя перед собой адресата, Печерин пишет в письме к Строганову о страхе спуститься до уровня этих людей, «валяться в грязи их общества», стать «благонамеренным старым профессором». Художественное воображение его влекло, практические соображения такта и здравого смысла роли не играли. В этом письме сходство печеринского «героя» и лермонтовского наиболее разительно, хотя и в «Вадиме» протагонист также был движим страстью ненависти, рожденной отчаянием. Письмо Печерина, написанное с огромной силой чувства, в момент одиночества, с явным желанием объяснить не только адресату, но и самому себе происходящее в сознании и душе, свидетельствует о полной власти романтического мифа над его личностью. Он не отделяет себя от литературы, за него говорит созданный его воображением собственный образ, подобный другим «героям нашего времени», и сознание собственной исключительности объединяет каждого со множеством подобных, тем самым лишая оригинальности, к которой они так сильно стремятся.
Никто из современников не помнит Печерина суровым и мрачным. Еще недавно он признавался в любви к обществу, к театру, даже танцам. За полгода чтения лекций в университете он приобрел восторженных слушателей, надолго запомнивших его увлекательные, живые лекции. Но оказывается, все это было маской, скрывающей душевные муки: «Я погрузился в мое отчаяние, я замкнулся в одиночество моей души, я избрал себе подругу столь же мрачную, столь же суровую, как я сам… Этою подругою была ненависть! Да, я поклялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему, меня окружавшему! Я лелеял это чувство, как любимую супругу. (У Лермонтова сестра предлагает Вадиму лелеять ненависть, как дитя – «плоть от плоти»; Печерин обращается к близкому, но в его случае более подходящему образу – «едина плоть» – «как любимую супругу». – Н. П.) Я жил один с моей ненавистью, как живут с обожаемою женщиною. Ненависть – это был мой насущный хлеб, это был божественный нектар, коим я ежеминутно упивался. Когда я выходил из моего одиночества, чтобы явиться в этом ненавистном мне свете, я всегда показывал ему лицо спокойное и веселое; я даже удостаивал его улыбки…»
Ознакомительная версия.