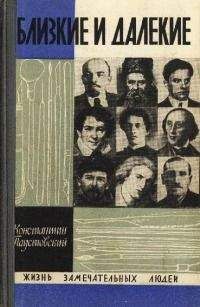Сошенко пошел к Ширяеву. Долго он уговаривал угрюмого подрядчика отпускать Шевченко в свободное время к нему, художнику Сошенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сошенко был настойчив, и подрядчик сдался.
С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у Сошенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом Брюлловым.
Имя Брюллова, недавно вернувшегося из Италии, было окружено трескучей славой. Петербуржцы знали восторженные отзывы Вальтера Скотта о полотнах Брюллова. Рассказывали, что в Риме, когда Брюллов появлялся в театре, зрители встречали его рукоплесканиями. О Брюллове создавались легенды. Его ставили в один ряд с Микеланджело и Рафаэлем. Его великолепная мастерская приводила в трепет измотанных нуждой художников и нищих учеников Академии. Пушкин восхищался Брюлловым и просил его написать портрет жены — Наташи Гончаровой.
Преклонение перед Брюлловым легко понять. Брюллов внес в русскую живопись живую нарядность и приподнятость красок. Он как бы целиком перенес в Россию вместе со своими полотнами клочок Италии. Все золотилось, смуглело, сверкало лукавством и улыбкой, театральной грацией на его холстах. Брюллову завидовал даже Кипренский.
Брюллову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его «мазню».
Брюллову понравился Тарас — «мальчик с некрепостным лицом». Он заинтересовался его судьбой и обещал Сошенко подумать о ней.
После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева. Слезы радости часто появлялись у него на глазах.
Сошенко устроил так, что Тарас начал посещать классы Академии художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак.
Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту Виельгорскому. Сообща было решено добиться освобождения Тараса.
Брюллов поехал к Энгельгардту. Он вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни, — сказал он Сошенко. — Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит».
Так начался страшный торг с Энгельгардтом за свободу Шевченко.
Сошенко сам не решился пойти к Энгельгардту. Он попросил об этом Венецианова. Сошенко думал, что Энгельгардт постыдится затеять торговлю с простодушным стариком, пользовавшимся всеобщей известностью и уважением. Венецианов охотно согласился идти к помещику, — всю жизнь он помогал людям, «впадавшим в крайность». Он считал это таким же естественным для себя делом, как и рисование картин.
Энгельгардт заставил старика Венецианова больше часа дожидаться в передней, среди челяди и лакеев. Принял он Венецианова грубо, надменно. Он не захотел слушать разговоров о талантливости Шевченко и необходимости свободы для его дальнейшего развития.
— Все это вздор! — сказал он Венецианову. — Все это филантропия! Не в том, батенька, дело.
Тогда Венецианов, краснея за собеседника, спросил, во сколько Энгельгардт оценивает свободу Шевченко.
— Наконец-то я слышу достойные слова! — воскликнул Энгельгардт и начал уклончивый разговор о том, что Шевченко ему надобен, потому что он, Энгельгардт, заказывает ему портреты знакомых и даже платит крепостному художнику за каждый портрет рубль серебром. Торг длился долго. Энгельгардт в конце концов назначил за Шевченко выкуп в две тысячи пятьсот рублей и не захотел уступить ни копейки.
Сумма была огромна. Она делала освобождение Шевченко почти невозможным. Венецианов пришел к Сошенко обескураженный и сердитый.
Снова совещались Брюллов, Сошенко, Венецианов и Жуковский и решили деньги эти достать во что бы то ни стало.
Шевченко страшно волновался. Он задумал убить Энгельгардта. Чтобы успокоить его, Сошенко добился у Ширяева отпуска для Тараса на один месяц. Но Ширяев был не такой человек, чтобы согласиться даром, — Сошенко должен был за это бесплатно написать портрет Ширяева.
Отпуск не помог Шевченко. Он знал, что нигде двух с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Мысль об убийстве Энгельгардта он оставил: вместо свободы это принесло бы еще худшую неволю — каторгу, Сибирь.
Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как леденящее железо входило в сердце отчаяние. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой.
Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю стужу. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве чернел и трещал. С залива дули мокрые ветры.
Шевченко смотрел из окна больницы, — никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины не могло пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные как казарма, стояли над промозглым Петербургом. Шевченко чудилось, что худой николаевский солдат заглядывает на него в окна, не спускает с больного бескровных глаз, моргает белыми ресницами. Но за окнами никого не было, — там шел реденький снег.
Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева, — по реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев — тихий, смущенный, совсем непохожий на прежнего матерого хозяина.
Он помял в руке черный картуз, сел и сказал:
— Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя господа художники. Теперь ты человек вольный.
Шевченко отвернулся, и губы у него задрожали.
Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался — и ушел.
Вскоре пришел Сошенко. Шевченко сел на койке и спросил:
— Это правда?
— О чем ты говоришь, Тарас? — спросил Сошенко.
— Это правда, что вы… что я… — сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово — невероятное слово «свободен».
Сошенко догадался.
— Правда, Тарас, — сказал Сошенко.
Шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал. Сошенко вынул из кармана «вольную» и отдал ее Шевченко. Тот прочел ее несколько раз, поцеловал и спрятал под подушку.
Было это 22 апреля 1838 года.