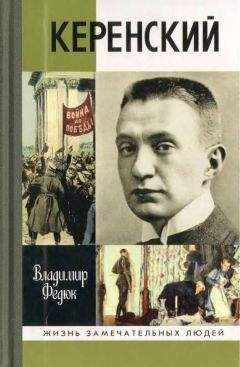Вопрос о немедленном введении демократических свобод или объявлении всеобщей амнистии споров не вызвал. Но делегаты Совета настаивали на немедленном провозглашении России республикой, а против этого категорически был Милюков. Еще более резкое неприятие министров вызвало предложение ввести в армии институт выборных офицеров. Споры затянулись на всю ночь. Шульгин позднее писал об этом: «Это продолжалось долго, бесконечно. Это не было уже заседание. Было так. Несколько человек, совершенно изнеможенных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации… Керенский то входил, то выходил, как всегда — молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. Но в конце концов совершенно изнеможенный и он упал в одно из кресел…»[121]
Была уже глубокая ночь, когда переговоры окончательно зашли в тупик. Милюков упрекал представителей Совета в том, что те своими необдуманными призывами разжигают неизбежную гражданскую войну. Те, в свою очередь, недвусмысленно обвинили правительство в потакании контрреволюционным элементам. Казалось, дело идет к окончательному разрыву. Но в последний момент положение спас Керенский. Шульгин вспоминал: «Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил как на пружинах…
— Я желал бы поговорить с вами…
Это он сказал тем трем. Резко, тем безапелляционным шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни…
— Только наедине… Идите за мною…
Они пошли. На пороге он обернулся:
— Пусть никто не входит в эту комнату.
Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытать их в „этой комнате“».[122]
Через четверть часа дверь распахнулась. На пороге стоял бледный Керенский:
— Представители Исполнительного комитета согласны на уступки.
После этого проект совместной декларации был составлен довольно быстро. Правда, уже на следующее утро наметившееся соглашение было вновь разорвано. Временному правительству и Исполкому Совета понадобится еще больше недели, для того чтобы выработать хотя бы примерные правила взаимодействия. Но мы пишем не историю революции, а биографию Керенского. А потому важно заметить, что именно Керенский был в февральско-мартовские дни тем связующим звеном, которое сохраняло неустойчивый контакт двух органов, претендовавших на верховную власть. Это обстоятельство делало его незаменимым и для тех, и для других. Мы уже писали, что этим было обусловлено само появление Керенского в составе правительства. Та же причина заставила Совет санкционировать его вхождение в кабинет.
Вступлению Керенского в состав Временного правительства мешало одно весьма важное обстоятельство. Дело в том, что накануне Исполком Совета большинством 13 голосов против восьми принял решение не участвовать в формировании кабинета и не посылать в него своих представителей. Таким образом, соглашаясь занять кресло министра юстиции, Керенский шел на конфликт с руководством Совета.
На дворе стояла глубокая ночь. Керенский не был у себя на квартире три дня и лишь мельком видел жену, которая пришла в Таврический дворец искать пропавшего супруга. Чувствуя страшную усталость, он решил добраться домой, чтобы поспать хотя бы до утра. Но уснуть ему так толком и не удалось. Позже он писал: «Два-три часа я провел в полуобморочном состоянии как в бреду. Потом вдруг вскочил на ноги, получив в конце концов ответ на вопрос, о котором, казалось, забыл. Решил немедленно звонить сообщить, что принимаю пост во Временном правительстве и буду объясняться не с Исполнительным комитетом, а с самим Советом. Пусть он решает проблему, возникшую между Исполнительным комитетом и мной!»[123]
По словам Керенского, главной причиной, заставившей его принять такое решение, была тревога за судьбу находящихся в «министерском павильоне» сановников. Спасти их от расправы мог, по его мнению, только он сам и никто другой. Однако будем осторожны, принимая это объяснение. Керенский принадлежал к любопытной категории, не так часто встречающейся среди обычных граждан, зато среди политиков — сплошь и рядом. Такие люди предельно искренни в своих словах и убеждениях, они несомненные идеалисты и альтруисты. Но почему-то при всем своем альтруизме они неизменно получают выгоду в любой ситуации.
Главное — убедить себя, после этого убедить других гораздо проще. В конкретной ситуации Керенского это было совсем несложно. В отличие от Исполкома, где заседали люди достаточно образованные, на пленуме Совета преобладали представители фабрик и гарнизонных частей. На них Керенский надеялся повлиять своим красноречием.
Показательно, что о своем окончательном решении принять министерский портфель Керенский тут же по телефону сообщил Милюкову, получив у того полное одобрение. Ему и в голову не пришло звонить кому-то из Исполкома Совета. Его противники должны были оставаться в неведении вплоть до последней минуты.
Заседание Совета началось около двух часов дня. Керенский появился в Таврическом дворце к этому сроку, но в зал заседаний не пошел, оставшись в соседней комнате, отделенной от зала занавеской. По словам Суханова, он выглядел уверенным и отдохнувшим. От нервного возбуждения предыдущей ночи не осталось и следа. Кто-то из находившихся в комнате попытался вызвать Керенского на спор, но тот отвечал вяло, явно прислушиваясь к происходившему в зале заседаний.
В зале член Исполкома Ю. М. Стеклов (в ту пору меньшевик, а в недалеком будущем — верный приверженец большевизма) делал доклад о результатах переговоров с Временным комитетом Государственной думы. Его речь затянулась больше чем на час. Наконец раздались аплодисменты, свидетельствующие о том, что оратор закончил говорить. В этот момент Керенский неожиданно вскочил и бросился в зал. Он попытался пробиться к президиуму, но плотная толпа не давала ему пройти. Тогда Керенский взобрался на стол, стоящий тут же, в конце зала, и отсюда громко попросил слова. Кто-то из собравшихся повернулся на его голос, раздались неуверенные хлопки.
Керенский начал в своей излюбленной манере — тихо, почти шепотом, постепенно повышая голос до крика. Суханов вспоминал: «Бледный как снег, взволнованный до полного потрясения, он вырывал из себя короткие отрывистые фразы, пересыпая их длинными паузами… Речь его, особенно вначале, была несвязна и совершенно неожиданна, особенно после спокойной беседы за занавеской…»[124]