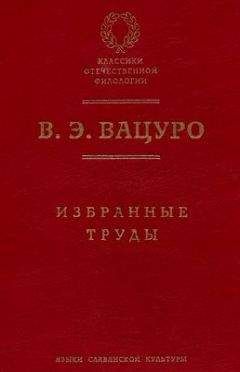Зато четвертое стихотворение Баратынского было приобретением важным. Это было послание «Богдановичу», в новой, переработанной редакции.
Эти самые стихи, как мы помним, читал Баратынский у А. И. Тургенева в июне 1824 года, когда шли споры о Жуковском и начиналась борьба с «коммерческой словесностью».
Сейчас споры были позади, а тема «железного века» для Баратынского не только не утеряла остроты, но занимала его все более.
Дельвиг, не вполне удовлетворенный в свое время посланием «К Богдановичу», печатает его — на расстоянии двух сотен страниц от сочинения Булгарина.
Сатирик и объект сатиры пока уживаются под одним переплетом. И Булгарин не примет послания Баратынского на свой счет.
Главные бои еще впереди — но начало уже положено.
В самом конце октября или начале ноября Дмитрий Веневитинов уехал на службу в Петербург.
Столица готовила ему сюрприз: сразу же по приезде он был вытребован в III отделение. Его держали двое или трое суток и допрашивали, выясняя, не связан ли он со злоумышленными обществами. Он отвечал резко. Недоразумение разъяснилось, но происшествие потрясло его.
В Петербурге его ждали старые знакомые из «любомудров» — Владимир Одоевский, А. И. Кошелев. Москвичи держались друг друга и постоянно виделись — чаще всего у Одоевских.
В первые же недели Веневитинов отправляется с визитом к Дельвигам — но не застает. Дельвиг наносит ответный визит — и тоже неудачно. Зато, встретившись, они сходятся необыкновенно быстро: за два месяца. Веневитинов теперь проводит у Дельвига целые вечера. «Мы с ним дружны, как сыны одной поэзии», — пишет он в Москву.
Его ласкают все члены дельвиговского семейства: Софья Михайловна, двоюродный брат Дельвига Андрей Иванович, тогда тринадцатилетний мальчик, Анна Петровна Керн, тоже почти член семьи, которую для краткости Дельвиг именовал «женой № 2». С Анной Петровной у Веневитинова установилась та «amitié amoureuse», которая могла бы перерасти в чувство, если бы не его платоническая и безнадежная страсть к оставшейся в Москве Зинаиде Волконской. Над романтическим влечением его к «молодым и умным дамам» у Дельвигов слегка подтрунивали.
Все это время он не оставляет мыслей о журнале. Он договаривается об участии с Дельвигом и Козловым. Он полон решимости «не щадить Булгарина и Воейкова», не требует от сотрудников гибкости и дипломатии: не нужно торопиться с полемикой, умный журнал сам себя поддержит, «главное отнять у Булгариных их влияние».
Это был пушкинский план. Литературная трибуна, объединение сил. Борьба с Булгариным еще не началась: в начале января 1827 года Веневитинов обедает вместе с ним и Гречем. Встречи, однако, только усиливают в нем неприязнь[179].
«Московский вестник» ждет помощи от Дельвига — но и Дельвигу нужно сотрудничество «любомудров».
В «Северных цветах на 1827 год» появляются стихи Веневитинова — «Песнь грека» и «Три розы».
В декабре 1826 года Дельвиг снова заболел. Он не выходил две недели и только под новый год почувствовал себя лучше, но не надолго. В январе он снова слег, и на этот раз лихорадка была так сильна, что Софья Михайловна перепугалась не на шутку[180].
«Северные цветы» были уже почти отпечатаны. То, что получал Дельвиг в январе, уже не попадало в книжку и оставлялось для следующего выпуска.
В начале января забеспокоился долго молчавший Языков. Он просил брата взять у В. М. Княжевича несколько стихотворений, посланных ранее, в том числе послание к А. А. Воейковой, и отдать их Дельвигу[181]. Стихи эти к Дельвигу, однако, не попали — и, может быть, из-за Воейкова, который усиленно требовал от Языкова стихов для «Славянина»; то же, что было посвящено Александре Андреевне, принадлежало ему по праву. В «Славянине» эти стихи и появились. Зато в руках Дельвига оказалось «Тригорское» — правда, на короткий срок. «Тригорское», поэтическое воспоминание о Пушкине и Осиповых, было получено Пушкиным в Москве в начале ноября, и поэт тогда же завладел им, чтобы напечатать в «Московском вестнике». Он сообщил об этом Языкову 21 декабря[182], в том самом письме, где делился с ним своей радостью по поводу грядущего уничтожения альманахов. Нужно сказать, что Языков не разделял этого энтузиазма к журналу, который вообще считал «делом непоэтическим»[183]. Альманахи, по его мнению, были более извинительны. Как бы то ни было, «Тригорское» в январе было в руках у Дельвига.
Мы знаем об этом потому, что 21 января 1827 года цензор П. И. Гаевский препроводил в цензурный комитет несколько стихотворений для «Северных цветов», вызвавших у него сомнения и потому представленных на усмотрение министра. Это были «Кинжал» Веневитинова, «Море» Вяземского, «Сон» Глинки и «Тригорское» «Н. Я….ва».
«Кинжал» был запрещен: в нем был изображен человек на грани самоубийства, произносящий к тому же «совершенно ложные мысли об аде». О «Сне» Глинки у нас уже шла речь: его держали месяц и также запретили 27 февраля по резолюции министра.
«Море» и «Тригорское» разрешили с какими-то «переменами»[184].
Из этих стихов только «Море» появится в следующей книжке «Цветов». «Тригорское» выйдет в «Московском вестнике» к некоторому неудовольствию Языкова. «Ей-богу, не знаю, что мне делать с Дельвигом, — писал он брату, — у меня теперь ровно ничего нет по части стихов моих нового. Напишу эпистолу к Свербееву, но она, вероятно, поспеет уже после выхода в свет Сев<ерных> Цв<етов>, долженствующих явиться в текущем месяце»[185].
Но «Северные цветы» не явились ни в феврале, ни даже в марте — и причиной тому были стихи Пушкина.
С тех пор, как император взял на себя функции пушкинского цензора, к нему следовало отправлять все, написанное Пушкиным, до последней строчки. Осенью 1826 года Пушкин не вполне ясно представлял себе свое новое положение и готов был находить в нем даже некоторые для себя привилегии. Он спокойно читал в Москве «Бориса Годунова» и раздавал стихи в альманахи и будущий «Московский вестник», когда в конце ноября получил от Бенкендорфа холодное и строгое напоминание о неуклонном исполнении высочайшего приказа. Его следовало понимать буквально: без санкции августейшего цензора не могло быть и речи не только о напечатании, но даже о чтении новых произведений.
Вследствие этого распоряжения Пушкин должен был остановить в цензуре все, что им было отдано в печать, в том числе и стихи, посланные Дельвигу[186].
Дельвиг должен был везти их Бенкендорфу, но болезнь удерживала его дома, и только 23 февраля он отправил шефу жандармов пакет — отрывки из «Онегина», «19 октября», послание к Керн и «Цыган» — для отдельного издания. Он извинялся, что не мог доставить их лично и передавал «убедительнейшую просьбу» Пушкина рассмотреть их скорее. Бенкендорф ответил 4 марта, выразив свое крайнее удивление посредничеством Дельвига. К нему обращались в обход всех правил субординации, почти как к частному лицу. Дельвига же он «вовсе не имел чести знать» и сделал новый выговор, уже обоим сочинителям. Самые же стихи он разрешил, — уведомляя при том, что представлял оные государю императору.